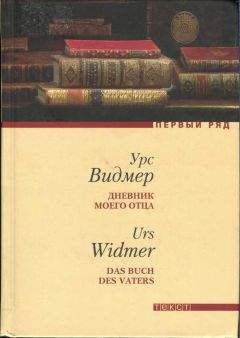Чарльз Диккенс - Большие надежды (без указания переводчика)
На это всѣ согласились, благодаря чему, я провелъ одинъ изъ самыхъ скучныхъ дней моей жизни. Всѣ, казалось, были убѣждены, что я совершенно-лишній на пирушкѣ; но всѣ, отъ времени до времени, обращались во мнѣ съ пошлымъ вопросомъ: отчего я не веселюсь? На что я, разумѣется, былъ принужденъ отвѣчать, что веселюсь, хотя былъ очень-далекъ отъ веселья.
Они были взрослые и потому умѣли веселиться. Этого бестію, Пёмбельчука, посадили на первое мѣсто, какъ главнаго виновника торжества. Поставивъ меня на стулъ рядомъ съ собою, онъ обратился къ остальнымъ съ рѣчью, въ который сообщилъ имъ новость, что я закабаленъ, и съ дьявольскимъ удовольствіемъ напиралъ на то, что, какъ сказано въ контрактѣ, я теперь подвергаюсь заключенію въ острогѣ, если стану пить, играть въ карты, сидѣть по ночамъ или посѣщать дурное общество.
Я хорошо помню только то, что они мнѣ не давали заснуть, и какъ-скоро я начиналъ дремать, будили меня и приглашали веселиться. Довольно-поздно вечеромъ мистеръ Уопсель прочиталъ намъ оду Колинса, и съ такимъ жаромъ подражалъ шуму брошеннаго меча, что половой приходилъ «освѣдомиться о здоровьи этихъ господъ, со стороны жильцовъ нижняго этажа, и напомнить имъ, что здѣсь не фехтовальная школа». Всѣ, кромѣ меня, возвращались домой въ отличномъ настроеніи духа и горланили пѣсню о какой-то красной дѣвѣ. Мистеръ Уопсель взялъ на себя басъ и утверждалъ, что онъ именно и есть бѣлокурый герой пѣсни.
Наконецъ, я помню, что чувствовалъ себя очень-несчастнымъ, ложась спать въ своемъ чуланѣ: Я былъ убѣжденъ, что никогда не полюблю своего ремесла; было время, когда оно мнѣ нравилось, но теперь уже было не то.
XIV
Грустно и больно становится, когда начнешь стыдиться своего роднаго крова. Быть-можетъ, это чувство отзывается черною неблагодарностью и заслуживаетъ наказанія — не знаю, но только это очень-тяжелое чувство.
Родной кровъ, благодаря неуживчивому нраву сестры, никогда не былъ пріятнымъ мѣстомъ для меня, но онъ былъ святъ въ глазахъ моихъ потому, что въ немъ жилъ Джо. Я вѣрилъ, въ него. Я вѣрилъ что главная гостиная была дѣйствительно великолѣпная зала; я вѣрилъ, что парадная дверь была какимъ-то таинственнымъ преддверіемъ храма, открытіе котораго сопровождалось священнымъ жертвоприношеніемъ жареныхъ цыплятъ; я вѣрилъ, что кухня была, хотя не великолѣпная, но безукоризненно-опрятная комната; я вѣрилъ, что кузница была славнымъ путемъ къ возмужалости и независимости. И въ одинъ годъ все для меня измѣнилось. Теперь все это мнѣ казалось пошло и грубо, и я ни за какія блага не хотѣлъ бы, чтобъ миссъ Гавишамъ или Эстелла увидѣла эту обстановку.
На сколько я самъ былъ причиною этого неблагодарнаго настроенія, на сколько была виновна въ этомъ миссъ Гавишамъ, или моя сестра — до этого никому теперь нѣтъ дѣла. Во мнѣ уже произошла перемѣна; дѣло было сдѣлано. Дурно ли, хорошо ли, извинительно или не извинительно, но оно уже было сдѣлано.
Бывало, мнѣ казалось, что съ той минуты, какъ я засучу рукава своей рубахи и поступлю на кузницу, въ Джо, передо мною откроется путь къ отличію и я буду счастливъ. Теперь это исполнилось на дѣлѣ и я увидѣлъ только, что весь былъ покрытъ угольною пылью, и на душѣ у меня лежалъ грузъ, въ сравненіи съ которымъ наковальня была легкимъ перышкомъ. Въ моей послѣдующей жизни (какъ и во всякой жизни, я полагаю) бывали случаи, когда мнѣ казалось, что тяжелая завѣса, заслоняла предо мною весь интересъ, всю прелесть жизни. Никогда эта завѣса не падала такъ тяжело и рѣзко, какъ теперь, когда жизненное поприще открылось предо мною, пролегая чрезъ кузницу Джо.
Помнится мнѣ, какъ нерѣдко подъ вечеръ, въ воскресенье, я задумывался, стоя на кладбищѣ, и сравнивалъ перспективу ожидавшаго меня будущаго съ тѣмъ унылымъ болотомъ, которое лежало предо мною. И то и другое было плоско и однообразно, и въ томъ и другомъ пролегалъ невѣдомый путь, застилаемый густымъ туманомъ, а вдали виднѣлось море.
Съ перваго же дня моего ученія я совершенно упалъ духомъ. Но мнѣ пріятно вспомнить, что во все время, пока продолжался нашъ контрактъ, я не проронилъ при Джо ни одной жалобы. Это почти единственное обстоятельство, о которомъ мнѣ пріятно вспомнить, когда я думаю о томъ времени. Все, что я намѣренъ сейчасъ сказать о годахъ моего ученія, дѣлаетъ болѣе чести Джо, нежели мнѣ самому. Если я не сбѣжалъ и не записался въ солдаты или матросы, то не потому, что самъ былъ вѣренъ чувству долга, но потому, что Джо былъ вѣренъ чувству долга. Если я работалъ довольно-прилежно, то не потому, чтобъ самъ сознавалъ важность труда, но потому, что Джо сознавалъ важность труда. Невозможно опредѣлить, какъ далеко вообще простирается вліяніе честнаго, простаго, трудолюбиваго человѣка, но очень-возможно сказать, на сколько оно имѣло дѣйствія на насъ самихъ, и я могу сказать съ полною увѣренностью, что все добро, которое я извлекъ изъ моего ученья, проистекало отъ простаго, малымъ довольнаго Джо, а не отъ меня самого, вѣчно-безпокойнаго и ничѣмъ недовольнаго.
Кто объяснитъ мнѣ, чего я тогда хотѣлъ? Я самъ того не зналъ. Я боялся, что когда-нибудь, въ злой часъ, когда я буду въ самомъ неизящномъ видѣ, Эстелла заглянетъ въ одно изъ оконъ кузницы. Меня преслѣдовали опасенія, что, рано или поздно, она увидитъ меня съ чернымъ лицомъ и руками, за самою грубою работою, и станетъ издѣваться надо мною, станетъ презирать меня. Частенько, въ сумерки, когда я помогалъ Джо раздувать огонь, и мы вмѣстѣ подтягивали «Дядя Климъ», я вспоминалъ, какъ мы пѣвали эту пѣсню у миссъ Гавишамъ, и тотчасъ же, въ огнѣ, мнѣ рисовалась головка Эстеллы, съ развѣвавшимися волосами и глазами, устремленными на меня съ какимъ-то насмѣшливымъ выраженіемъ.
Частенько въ такія минуты боязливо всматривался я во мракъ ночи, окаймленной деревяннымъ переплетомъ оконъ, и чудилось мнѣ, что она только-что отвернулась отъ окна, и я былъ увѣренъ, что мои опасенія наконецъ сбылись.
И потомъ, когда мы шли въ ужину, и комната и столъ казались мнѣ еще бѣднѣе, чѣмъ прежде, и чувство стыда еще съ большею силою шевелилось въ моей неблагодарной груди.
XV
Такъ-какъ я ужъ былъ слишкомъ-большой мальчикъ, чтобъ посѣщать классы тётки мистера Уопселя, то и воспитаніе мое подъ руководствомъ этой нелѣпой женщины окончилось. Конечно, она до-тѣхъ-поръ успѣла передать мнѣ все, что сама знала, начиная отъ маленькаго прейс-куранта до комической пѣсенки, которую она какъ-то разъ купила за полпенса. Хотя все это литературное произведеніе было безсвязнымъ наборомъ словъ, за исключеніемъ, быть-можетъ, перваго стиха:
Въ Лондонъ собравшись, сударики,
Турлъ, лурлъ,
Турлъ, лурлъ.
Не былъ ли я смуглъ, сударики?
Турлъ, лурлъ,
Турлъ, лурлъ.
Однако, побуждаемый желаніемъ поумнѣть, я серьёзно выучилъ его наизусть. И не запомню я, чтобъ когда-нибудь мнѣ приходило въ голову разбирать его достоинство; я только находилъ — и теперь еще на хожу — что эти «турлъ, лурлъ» повторялись не въ мѣру. Алча званія, я обратился въ мистеру Уопселю съ просьбою напитать меня крохами духовной пищи, и онъ милостиво согласился на это. Но такъ-какъ я вскорѣ увидѣлъ, что онъ хотѣлъ сдѣлать изъ меня нѣчто въ родѣ драматическаго болвана, котораго можно и лобызать и оплакивать, и терзать и умерщвлять — словомъ, тормошить всевозможнымъ образомъ, то я вскорѣ отказался отъ такого способа обученія, но, конечно, не прежде, чѣмъ мастеръ Уопсель, въ порывѣ поэтическаго азарта, порядочно помялъ меня.
Все, что я пріобрѣталъ, я старался передавать Джо. Эти слова звучатъ такъ хорошо, что я, по совѣсти, не могу пропустить ихъ безъ объясненія. Я хотѣлъ образовать и обтесать Джо, чтобъ сдѣлать его болѣе достойнымъ моего общества и оградить его отъ нападокъ Эстеллы.
Старая батарея на болотѣ была мѣстомъ нашихъ занятій, а разбитая грифльная доска и осколокъ грифеля составляли всѣ наши учебныя пособія. Джо присоединялъ къ нимъ еще трубочку съ табакомъ. Я не запомню ни одной вещи, которую бы Джо удержалъ въ памяти отъ одного воскресенья до другаго, и вообще онъ рѣшительно ничего не пріобрѣлъ отъ моихъ уроковъ. Но это не мѣшало ему покуривать свою трубочку съ необыкновенно-умнымъ, можно даже сказать, ученымъ выраженіемъ; казалось, онъ сознавалъ, что дѣлаетъ огромные успѣхи. Добрая душа, надѣюсь, что онъ дѣйствительно былъ въ этомъ убѣжденъ.
Тихо и прекрасно было въ этомъ уединенномъ мѣстѣ; за насыпью, на рѣкѣ, виднѣлись паруса судовъ, и иной разъ, во время отлива, чудилось, что суда эти потонули и продолжаютъ плыть по дну рѣки. Каждый разъ, что я слѣдилъ глазами за бѣлыми парусами уходившихъ въ море кораблей, мнѣ приходила въ голову миссъ Гавишамъ и Эстелла. Каждый разъ, когда я любовался, какъ солнечный лучъ, пробравшись украдкою, игралъ на отдаленной тучкѣ, или бѣломъ парусѣ, или зеленомъ склонѣ холма, или на свѣтлой полосѣ воды, я думалъ все о нихъ же. Миссъ Гавишамъ и Эстелла и странный домъ и странная жизнь имѣли, казалось, что-то общее со всѣмъ, что я видѣлъ живописнаго.