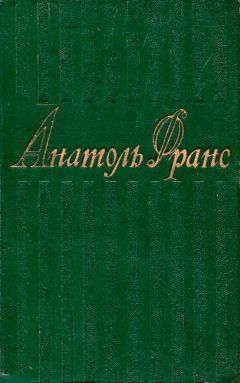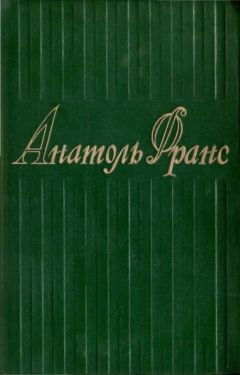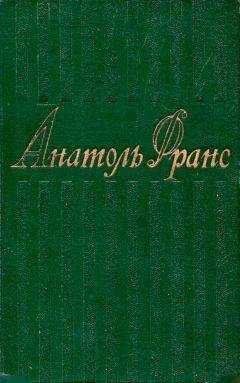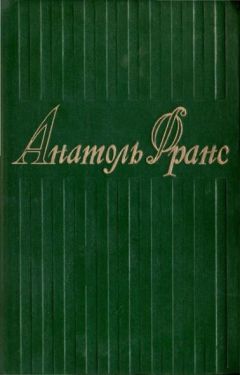Анатоль Франс - Харчевня королевы Гусиные Лапы
— Ну, идем, идем, крошка.
Однако Катрина не пожелала покинуть облюбованную позицию и судорожно цеплялась за борта кровати и тюфяки.
Ее любовник потерял терпение и грубо заорал, уснащая свою речь проклятиями:
— Вставай, шлюха!
При этих словах Катрина поднялась с постели и, улыбаясь сквозь слезы, взяла его под руку и вышла в залу с видом блаженствующей жертвы.
Она уселась между господином д'Анктилем и мной, склонила головку на плечо своего любовника, а ножкой нащупала под столом мой башмак.
— Господа, — проговорил наш хозяин, — прошу извинить меня за невоздержанное выражение своих чувств, о чем я, впрочем, не сожалею, ибо именно этому я обязан честью принимать вас здесь. Я в самом деле не желаю терпеть бесконечные капризы этой милашки, и с тех пор, как застал ее с капуцином, со мной шутки плохи.
— Друг мой, вас ослепляет ревность, — возразила Катрина, пожимая под столом своей ножкой мою. — Знайте же, что мне по вкусу один только господин Жак.
— Шутит, — буркнул г-н д'Анктиль.
— Не сомневайтесь, — подтвердил я. — Она любит только вас, это сразу видно.
— Могу сказать, не хвалясь, — заметил он, — я сумел внушить ей кой-какое чувство. Но она кокетка.
— Выпьем! — возгласил аббат Куаньяр.
Господин д'Анктиль пододвинул к моему учителю большую, оплетенную соломой бутыль и воскликнул:
— Вы, аббат, человек церковный, черт побери, объясните же хоть вы нам, почему женщины так любят капуцинов?
Господин Куаньяр утер губы и промолвил:
— Причина этому та, что капуцины и в любви хранят смирение и ни от чего не отказываются. А вторая причина та, что природные их инстинкты не сдерживаются ни размышлением, ни соображениями учтивости. У вас, сударь, прекрасное вино.
— Вы мне оказываете незаслуженную честь, — возразил г-н д'Анктиль. — Это вино господина де ла Геритода. Я располагаю его любовницей. И тем паче могу располагать его винным погребом.
— Совершенно справедливо, — подхватил добрый мой наставник. — Я вижу, сударь, вы выше людских предрассудков.
— Вы преувеличиваете мои достоинства, аббат, — отвечал г-н д'Анктиль. — Там, где человек незнатный остановится в нерешительности, я в силу своего происхождения чувствую себя непринужденно. Обыкновенный смертный волей-неволей должен взвешивать свои поступки. Он подчинен недвусмысленным требованиям порядочности, дворянин же взыскан честью драться во имя короля и ради собственного удовольствия. Это обстоятельство освобождает его от необходимости стеснять себя различными пустяками. Я служил под началом господина Виллара, я принимал участие в войне за наследство[57] и рисковал ни за что ни про что сложить голову в битве при Парме. Надеюсь, я заслужил хотя бы право сечь своих слуг, надувать своих кредиторов и отбивать у своих друзей, если мне заблагорассудится, их жен или даже их любовниц.
— Благороднейшая мысль, — промолвил мой добрый наставник — вы, как я вижу, ревниво охраняете привилегии знати.
— Мне неведомы, — продолжал г-н д'Анктиль, — громкие фразы, которые действуют на воображение толпы и которые, на мой взгляд, уместны лишь тогда, когда нужно припугнуть робких и согнуть в бараний рог обездоленных.
— В добрый час! — произнес аббат.
— Я не верю в добродетель, — отозвался его собеседник.
— И вы правы, — подтвердил мой учитель. — По самому своему устройству животное, именуемое человеком, приходит к добродетели лишь путем искажения своей природы. Сошлюсь для примера на миленькую девицу, что ужинает за одним столом с нами: взгляните на ее прекрасную головку, красивую грудь, дивно округлый живот, не говоря уж обо всем прочем. Ну, есть ли у этой особы такой укромный уголок, куда могла бы она поместить хоть крупицу добродетели! Да нет там такого места, слишком все это упруго, сочно, крепко сбито и выпукло. Добродетель, подобно ворону, гнездится среди развалин. Она облюбовывает себе жилье среди морщин, на впалой груди. Я и сам, сударь, размышляя с отроческих лет над возвышенными истинами религии и философии, я и сам сумел ввести в себя чуточку добродетели лишь через бреши, пробитые во мне страданием и годами. Да и то получалось, что всякий раз я набирался не так добродетели, как гордыни. Потому и приобрел я привычку возносить нашему создателю такую мольбу: «Упаси меня, боже, от добродетели, коль скоро уводит она меня от святости». Ах, святость, вот к чему должно и можно нам стремиться! Вот приличествующая нам цель! Да приблизимся мы к ней в положенный час. А пока давайте выпьем.
— Признаюсь, я не верую в бога, — заметил г-н д'Анктиль.
— А вот за это, — промолвил аббат, — я вас пожурю. Человек должен веровать в бога и во все истины, преподаваемые святой нашей церковью.
Тут г-н д'Анктиль громко воскликнул:
— Вы насмехаетесь над нами, аббат, и, видно, почитаете нас уж совершенными глупцами. Ну нет! Говорю вам, я не верую ни в бога, ни в дьявола, я никогда не посещаю церковных служб, за исключением службы о здравии короля. Проповеди, произносимые с амвона, — бабьи сказки, и годились в те времена, когда моя бабушка видела аббата Шуази[58], который в женском платье раздавал освященные просфоры в Сен-Жак-дю-О-Па. В ту пору, возможно, религия и существовала. А теперь ее, слава те господи, нет.
— Во имя всех угодников и всех дьяволов, не говорите так, друг мой, — промолвила Катрина — Бог существует, это так же достоверно, как то, что этот паштет стоит на этом столе, и за доказательствами недалеко ходить, ибо когда в прошлом году я как-то впала в отчаяние и грусть, то по совету братца Ангела отправилась в церковь Капуцинов поставить свечку. И что же? На следующий же день я встретила на гулянье господина де ла Геритода, а он подарил мне этот особняк со всей обстановкой и непочатый погреб вина, которое мы сейчас пьем, и дал вполне достаточно денег, чтобы жить прилично.
— Тьфу! — сказал г-н д'Анктиль, — эта дуреха сует бога во все свои грязные делишки, а это уж до того мерзко, что может оскорбить даже безбожника.
— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — куда лучше вмешивать по примеру сей простодушной девицы господа бога в самые грязные дела, чем вовсе изгонять его из им же созданного мира, как это пытаетесь сделать вы. Не стану утверждать, что он с умыслом подослал толстосума-откупщика творению своему Катрине, но допустил же он их встречу. Неисповедимы пути господни, и в невинных речах мадемуазель Катрины, хотя в них есть привкус и примесь кощунства, содержится более истины, чем в том суесловии, каковое высокомерно черпает нечестивец в опустошенном сердце своем. Нет ничего ненавистнее того распутства мысли, которым печется нынешняя молодежь. От ваших слов меня даже оторопь берет. Опровергну ли я их ссылками на священные книги и писания отцов церкви? Повторю ли слова господа, вещавшего патриархам и пророкам:
Sic locutus Abraham et semini ejus saecula?[59]
Обращу ли ваши взоры к преданиям церкви? Прибегну ли к помощи могущественного слова Ветхого и Нового Заветов? Смущу ли вас чудесами, сотворенными Христом или словом его, еще более чудесным, нежели деяния. Нет! Не прибегну я к этому священному оружию, слишком боюсь осквернить его в малопочтенном поединке. В благоразумии своем церковь учит нас беречься назиданий, которые могут обернуться позорищем. Вот почему, сударь, я умолчу о тех истинах, каковыми был вскормлен под сенью святынь. Но, не нарушая целомудренной чистоты своей души и не выставляя на посмеяние священных тайн, я покажу вам бога, властвующего над сознанием людей; покажу его в философических доктринах язычников, даже в словах нечестивцев. Да, сударь, я докажу вам, что вы сами веруете в бога вопреки своей воле, хотя утверждаете, что его нет. Ибо вы, конечно, согласитесь со мной, что если в мире существует некий порядок, то порядок этот божественный, и проистекает он из источника и родника всякого порядка.
— С этим я согласен, — ответил г-н д'Анктиль, откинувшись на спинку кресла и поглаживая икру своей и впрямь стройной ноги.
— Так не ошибитесь же, — продолжал добрый мой наставник, — когда вы утверждаете, что бога не существует, ведь вы приводите в связь мысли, подбираете доводы разума и обнаруживаете в самом себе начало всякой мысли и всякого разума, каковое начало и есть бог. И можно ли, даже пытаясь установить, что бога не существует, обойтись без рассуждений, пусть самых жалких, где не блеснула бы искорка гармонии, предустановленной во вселенной богом?
— Вы, аббат, софист хоть куда, — ответил г-н д'Анктиль. — В наши дни всякий знает, что мир есть лишь плод случайности, и с тех пор как ученые разглядели в зрительные трубки на луне крылатых лягушек, смешно даже толковать о провидении.
— Что ж, сударь, — возразил мой добрый учитель, — пусть на луне живут крылатые лягушки; эта болотная дичь вполне достойна обитать в мире, не искупленном кровью господа нашего Иисуса Христа. Согласен, мы знаем только ничтожную часть вселенной, и, вполне возможно, прав господин д'Астарак, хоть он и безумец, утверждающий, что наш мир — лишь капля грязи в бесконечности миров. Возможно, не так уже бредил астролог Коперник, когда поучал нас, что Земля математически не является центром вселенной. Я читал даже, что один итальянец по имени Галилей, принявший жалкую кончину, разделял мысли этого Коперника, и, как мы видим, ныне наш господин де Фонтенель[60] соглашается с их доводами. Но все это суетные вымыслы, могущие смутить лишь слабые умы. Что мне за дело до того, велик или мал физический мир, имеет он ту форму или иную. Достаточно того, что он представим только через категории разума и познания, а в этом и проявляется бог.