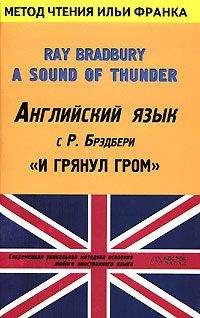Василий Смирнов - Открытие мира (Весь роман в одной книге)
— Начаевал?
— Бог милостив, не без того — с, — важно кивнул Бородулин и продолжал, захлебываясь, сипеть: — Смену отстояли — свободны как ветер. В кармане красненькая шелестит, серебрецо звякает. Адью — с! Переоделись пофасонистее — есть во что, — надикалонились… Идете в ресторан напротив: «Че — оэк! Пару пива и графинчик — с…» И — гулять на Невский проспект. С тросточкой. В шляпе — с… Князем выступаете, тросточкой помахиваете, сам черт вам не брат. Девицы расфуфыренные, конечно, глазки строят. «Пардон, мадмуазель, дозвольте до вас прицепиться?» — «Ах, сделайте такое одолжение!» Р — рокам — боль… Закатываетесь в театр… на взморье… в Народный дом… И пошла вертеться карусель до самого утра — с.
— Райская жизнь, — равнодушно согласился пастух, высматривая что‑то в небе. — Одно скажу тебе, Михайло Назарыч: смотри, горлышко у тебя будто сипеть начало, а?
— Какие глупости!
— Глупость действительно большая… Не вылечишь, травка — муравка, грустно промолвил пастух, и на лицо его упала печаль, да так и запуталась там, в белесой шерсти осталась.
Шурка ничего не понимал. Богатство Миши Императора, его необыкновенная жизнь не произвели на Сморчка никакого впечатления. Он не только не восхищался и не завидовал, он даже почему‑то жалел счастливого парня. И эта жалость, как видел Шурка, была неприятна Бородулину. Он как‑то сразу потускнел. Отодвинулся подальше от пастуха, в тень ивы. Огни перстней погасли.
Сморчок поправил шапку у себя под головой, заломил дремучие брови.
— Человек — украшение земли… А она, матушка, — украшение человека, — задумчиво, словно рассуждая сам с собой, проговорил пастух. Зла в нас много. Иной раз кажется — конца — краю не будет злу‑то. Горы!.. А раскинешь умом: да ведь и горы своротить можно. Пожелать только надо, всем миром навалиться… Опять же примечай, как ладно все на земле устроено. Кажинная травка живет и свое счастье — радость имеет… Так неужто одному человеку беда на роду написана?!
Шурка слушал, и эти грустно — ласковые, торжественные слова волновали его, будто пастух играл на трубе и она выговаривала песню. Ему представился Сморчок, каким он бывал в первый день пастьбы: нарядно — белый, праздничный, властный. Все слушаются его — коровы, бабы, ребята. Вот он ведет народ к горе, упирается в нее, как дядя Родя, плечом, мужики подсобляют ему, и гора сдвигается с места.
— Не должно быть в мире зла — вот какая притча. Стало быть, и в людях оно необязательно… Душа к добру тянется, к справедливости… Ну, а душа — всему владыка. Душа, братец ты мой, все сделает, коли захочет.
Сморчок повернулся на бок, приподнялся на одном локте и долго смотрел по сторонам посветлевшими глазами.
— Благода — ать!.. — вздохнул он, запуская обе пятерни в лохматую бороду, подергал ее, посмеялся тихо и опять лег на спину. — Вот она, радость несказанная… подле тебя. Живи — веселись! Не греши душой! воскликнул он, подмигивая кому‑то в небе, должно быть самому богу. — А уж какое тут веселье… Видал я таких ухарцев… Главное, жениться не надо.
— Э — а–а — х… — зевнул парень, не слушая, и стал жаловаться на скуку смертную.
Потом принялся хаять деревню. Он назвал мужиков серыми валенками, а баб — грязными коровами. Ему все не нравилось: и словом перемолвиться не с кем, люди какие‑то живут необразованные, газет не читают, про сыщика Ника Картера или, допустим, про «Пещеру Лехтвейса» и не слыхивали… И дома чисто собачьи вонючие конуры. И пылища везде, не приведи бог, хоть раз десять на дню штиблеты чисти. И сесть благородно негде — весь перезеленишься, перепачкаешься.
Сморчок пошевелился, заурчал, как растревоженный медведь.
— Уйди… — глухо сказал он, не открывая глаз.
Ребята переглянулись, насторожились.
— По уши в дерьме сидите — с, — продолжал Миша Император, презрительно кривя губы. — Ползаете, вон как мухи по коровьей лепешке — с.
— Уйди — и! — заревел, поднимаясь, Сморчок, как он кричал на коров.
Его так всего и трясло. Глаза у Сморчка потемнели и стали маленькими. Он потянулся за кнутом.
Миша Император вскочил, прихватив носовой платок. Мочальный кнут, извиваясь, полз по траве змеей.
Ребята испуганно шарахнулись в стороны, рассыпая из набирушек ягоды.
— Дикий вы человек — с, — просипел Миша Император, пятясь и обороняясь тросточкой. — И все ваши рассуждения глупые — с, — бормотал он, пожимая плечами и косясь на баб, доивших коров.
Кнут не мог уже достать до него. Он повернулся и не спеша пошел к селу, осторожно ступая по пыльной дороге и помахивая тросточкой.
— Тьфу… поганец! — плюнул Сморчок ему вслед и долго не мог успокоиться: ворочался с боку на бок, мял под головой заячью шапку, и все ему было неловко.
— А ведь Миша Император струсил, вот те Христос! — шепнул Яшка ребятам. — Из‑за чего это взъярился Сморчок? Я чего‑то не разобрал.
— И я не разобрал, — ответил шепотом Шурка, подбирая землянику. — А здорово бы грязным кнутом — по чистой рубахе!
— Да, здорово… Жалко, не вышло.
Аладьины ребята, Гошка и Манька, собрались домой. Пора было возвращаться и Шурке. Но ему не хотелось идти. Как только пропал в поле за поворотом дороги Миша Император, Шурка стал беспокойно поглядывать на зеленеющую вдали Голубинку.
— Пить хочется, — сказал он. — Хорошо бы еще ягодок поесть, а? Яша?
— Хорошо бы, — согласился тот, подбираясь снова к трубе пастуха, брошенной у изгороди.
— Двинем?
— Двинуть можно… да покуда идешь по жаре, еще больше пить захочется. Давай из болота напьемся? — предложил Яшка.
Труба была у него в руках, и ему не хотелось с ней расставаться. Поглаживая мятую жесть, он не сводил глаз с пастуха, который угнездился‑таки и, кажется, задремал.
— В болоте лягушечьи наклохтыши, — сказал Шурка, с тоской взирая на пустошь.
— Ну и что? Эка важность!
— Проглотишь ненароком — головастик заведется… Вырастет лягушка и начнет в брюхе квакать.
Против такого соображения Яшка ничего не мог возразить. Да ему и некогда было это делать. Он с наслаждением приложил трубу к губам. И только собрался огласить выгон восхитительными руладами, как пастух, не глядя по обыкновению, но точно все видя, протянул волосатую руку и молча отнял трубу.
Видать, Сморчок все еще был сердитый. Яшка печально высморкался.
— Молочка бы парного испить! — вздохнул он. — Твоя мамка ходит на полдни корову доить?
— Нет.
— Разве нам самим попробовать подоить?
— Да она бодается, корова‑то.
— Ничего, мы ее за рога ремнем к сосне привяжем.
— Мамка, пожалуй, заругается… Знаешь, — сказал Шурка с воодушевлением, — а ведь я на перелогах грибов нашел целое стадо!
— Ну? — оживился Петух, забывая про молоко. — Где же они у тебя?
— Анке отдал.
— Вот дурак!
— Да их там много осталось. Пойдем?
— Айда! — быстро поднялся на ноги Яшка, прощаясь нежным взглядом с трубой, торчавшей у Сморчка под шапкой.
Они тронулись, но в поле им повстречался Колька, одинешенек, со свежей царапиной во всю щеку и пустым стаканом. Шурка сразу повеселел и изменил план.
— Не стоит, Яша, тащиться на Голубинку, — ласково сказал он. Наверное, Анка все грибы обрала. Пойдем‑ка домой… В Баруздином омуте искупаемся еще разик. Там и водицы напьемся через рубаху. Наклохтыши не попадут.
Труба теперь была далеко, и Яшка не возражал.
Шурка подскочил к Кольке и радостно — насмешливо спросил:
— Это кто же тебя так разукрасил?
Колька Сморчок не ответил, засопел и побрел на выгон к отцу, катя перед собой по траве пустой стакан.
Шурка посмотрел, как толкает Колька ногой стакан, как он блестит на солнышке, напоминая светлую жестяную банку, и совсем развеселился.
Глава XVI
ОТЕЦ
Отца ждали из Питера, как всегда, перед сенокосом, в канун престольного праздника тихвинской божьей матери.
Недели за две стал Шурка готовиться к встрече, запасаясь первыми грибами и ягодами. Он прятал добычу в сенях, за ларем, в прохладном месте. Но от долгого лежания грибы и ягоды все равно портились, приходилось заменять их свежими.
Все чаще и чаще, прибираясь по дому, мать пела грустные песни. По ночам она ворочалась в постели, вздыхая и крестясь, мешая Шурке трепетно мечтать об ежегодном отцовском подарке.
В избе было душно, кусали блохи. Шурка сползал с кровати на пол, впотьмах подстилал что‑нибудь в углу и долго лежал с открытыми глазами, представляя себе приезд отца. Засыпая, он видел ружье, стреляющее заправскими пульками. «Дай бог, чтобы тятя привез мне ружье», — молился он.
Последние дни тянулись так медленно, что Шурка, не вытерпев, торопил их, срывая кряду по два листка на календаре. Он быстро добрался до желанного числа, обвел его угольком и ждал — вдруг сегодня приедет отец.