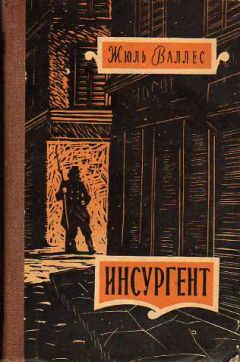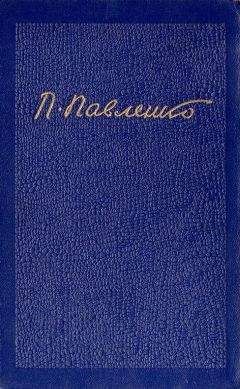Жюль Валлес - Инсургент
Он пристает ко мне с вопросами, я отвечаю. Но мысли мои далеко. Я невольно прислушиваюсь, не донесет ли теплый ветерок, овевающий наши головы, эхо перестрелки; и в ту минуту, когда мой собеседник спрашивает в упор, какие у меня имеются возражения против коллективной собственности, — я думаю о Бридо, об Эде и о Бланки.
Почему вдруг умолк барабан шута?
— Признайтесь, что вы разбиты! — говорит механик, весело чокаясь со мной. — Если б только нам удалось захватить власть!
Власть? Вон там, около фигляра, их шестеро, готовых уже овладеть ею.
Но я не говорю об этом товарищу, — не считаю себя вправе.
Довольствуюсь тем, что спрашиваю, может ли, по его мнению, движение, руководимое воинственно настроенными людьми, увлечь народ против империи.
Он берет спичку и медленно проводит ею о штаны.
— Смотрите, достаточно будет сделать вот так, и все вспыхнет. Только вот так!
— Вы уверены, дружище?
А между тем, если б что-нибудь произошло, мы знали бы это здесь... Но пока ничего!
Очевидно, в тот момент, когда фокусник жонглировал своими шариками, их схватили в толпе, да так, что они даже и ахнуть не успели, и теперь шпики вылавливают подозрительных.
4 часаНи шума, ни волнения!
Рабочие, вырядившись в новые пиджаки, прогуливаются со своими расфранченными женами. Старшие сестры тащат за руки маленьких братишек, останавливаясь перед выставленными на витринах картинками и сластями. В мозолистых руках виднеются цветы, и на лицах всех этих тружеников написано желание отдыха и покоя.
Воскресенье — неудачный день для восстаний.
Никому не хочется портить свое лучшее платье, лишать себя угощения в кафе, на которое давно уже отложено несколько су; к тому же это единственный день в неделю, когда можно побыть в кругу своей семьи, навестить старика отца, повидать друзей.
Не следует призывать к оружию в дни, когда бедняки принаряжаются, когда они, промечтав об этом целую неделю в своих мрачных жилищах, устраивают пирушку в веселом, увитом зеленью ресторанчике.
Поэт Гюстав Матьё[131] и волосатый Реньяр, поймав меня за столиком в ресторане Дюваля, где я только что уселся, сообщают мне, что человек тридцать осадили казарму[132] пожарников в квартале Ла-Вилетт и открыли огонь по полицейским.
И, по-видимому, уложили одного или двух.
— Преступники! — говорит Матьё.
— Идиоты! — кричит Реньяр, которому, как бланкисту, самому полагалось бы там быть.
Идиоты! Преступники!.. — эти честные, смелые люди...
Необходимо в ближайший день обсудить все это.
Эд и Бридо арестованы по собственной неосторожности.
Военный суд выносит смертный приговор.
Как их спасти?
Быть может, на общественное мнение воздействует письмо какой-нибудь популярной, знаменитой личности?
И мы ищем, кто бы мог составить и подписать это письмо величайшей важности.
Трудное дело.
Осужденные заявили, что они отвергнут всякое ходатайство о помиловании, возбужденное перед империей; да и мы сами не хотели бы, во имя их, допустить какую-нибудь слабость, — даже ради их спасения.
Люди убеждений — ужасный народ.
Но все же мы думаем, что, если заговорит такая величина, как Мишле, — его услышат... и, возможно, прислушаются к его словам.
Рожар[133], Эмбер, Реньяр, я и еще несколько человек отправляемся к нему.
Он предстал перед нами таким, каков он есть: величественный и женственный, красноречивый и чудаковатый.
Он сразу согласился и захотел только узнать, кому будет направлено это послание, которое, не походя на просьбу, должно вместе с тем иметь целью отмену смертного приговора.
— Вождям обороны! — предложил я.
— Хорошо, очень хорошо!
Он встает и проходит в соседнюю комнату, оставляя нас на минуту одних.
Затем возвращается и снова садится за стол, вокруг которого мы столпились, безмолвные и взволнованные.
— Сударь, — произносит он, обращаясь ко мне, тоном человека, передающего слова оракула, — мадам Мишле того же мнения, что и вы.
И мы приступаем к составлению письма.
Он не любит Бланки и в первой же строчке своего черновика взваливает на него ответственность за выступление и за приговор.
— Наши товарищи, — заявляет один из нас, — не согласятся даже для спасения своей жизни отречься от своего вождя...
Он закусывает губы, кряхтит «гм! гм!» и снова исчезает, но ненадолго и, вернувшись, говорит нам:
— Решительно, господа, женщины на вашей стороне; мадам Мишле понимает вашу щепетильность и одобряет ее. Вычеркнем эту фразу.
Наконец, когда уже все кончено, он идет еще раз посоветоваться со своей Эгерией. Мы смеемся, но со слезами умиления на глазах.
Он обратился к сердцу той, кто являлась подругой его жизни и спутником его идей. И это сердце высказалось, как и наши, за жизнь и честь наших друзей.
Мишле шагает из угла в угол.
— Они не посмеют их убить, я не допускаю этого... Такие стоят чудесные дни! При таком солнце кровь оставила бы на газоне слишком отвратительное пятно... буржуа не захотят расположиться на травке, если от нее будет пахнуть трупом. Они присоединятся к нам, вы увидите. Во всяком случае, я ручаюсь вам, что они не расстреляют их в воскресенье.
Воззвание заканчивалось приблизительно такими словами:
Господь взирает на народы...
Господь... Слово это не очень-то пришлось по вкусу нашей четверке атеистов, и мы встретили его гримасами и молчанием.
Мишле смотрит на наши физиономии и, пожимая плечами, говорит:
— Ну да, я понимаю... Но это звучит хорошо.
Мы отправились с письмом по редакциям, причем все оспаривали друг у друга эту честь.
А, черт возьми! Как хорошо, что я не принадлежу ни к какой группе, ни к какой церкви, ни к какой клике.
По-видимому, есть два течения в бланкизме, и каждое из них отказывает другому в праве спасти головы осужденных.
И эти головы скатились бы, если б их судьба была предоставлена группе, которая соглашалась помешать казни лишь в том случае, если вся слава по отмене приговора выпадет на ее долю.
К счастью, кончилось тем, что дело было поручено независимым, вроде меня, и мы обошли все органы прессы.
В «Деба» человек, которого нам назвали Максимом Дюканом[134], негодующе потряс головой, слушая нас. Он жесток к побежденным.
Почти всюду письмо было принято как хорошая рукопись и напечатано, но без единой строчки сочувствия или жалости.
Тогда мы бросились к депутатам Парижа, которые, кстати сказать, почти неуловимы. Они надавали нам неопределенных обещаний, а у некоторых срывались даже оскорбительные слова, так что приходилось заставлять их замолчать.
Гамбетта резко выступает против осужденных и требует с трибуны, чтобы их наказали как действующих заодно с врагами родины.
Ах, бандит! Ему-то лучше, чем кому-либо другому, известно, что это — смелые и мужественные люди. Но такие люди беспокоят его, они — угроза его будущему. Кто знает, не удастся ли ему выудить себе диктатуру в мутной крови поражения? Так почему же не отделаться от этих непокорных при помощи солдат империи?
Коллеги Гамбетты тоже колеблются, — настолько они чувствуют над собой его власть. Однако они не захлопывают перед нами дверей, потому что атмосфера достаточно накалена и они боятся, как бы во время восстания, — а оно может вспыхнуть каждую минуту, — их отказ не прицепили к их депутатской перевязи, как прицепили некогда фонарь к груди герцога Энгиенского[135], — чтобы виднее было, куда стрелять.
XVIII
Собравшись группой в несколько человек, мы обошли редакции газет буржуазной оппозиции, где за последние дни уже происходили какие-то тайные совещания, на которые, конечно, не были допущены нарушители порядка, вроде меня.
Я хорош только с истинными революционерами и терпеть не могу жрецов, чьи символы веры я так беспощадно высмеял и которые не могут простить мне моей статьи о Пятерке.
Но сегодня делегаты имеют право врываться во все двери с либеральными вывесками.
Впрочем, перед важностью событий стушевываются все разногласия, и доктринеры в погоне за людьми дела домогаются сейчас даже тех, кого они еще недавно считали опасными крикунами.
Когда безмолвствуют и колеблются полки, крикуны — это клад. Только недисциплинированные могут сломить дисциплину.
Ими воспользуются, а потом, назавтра, — когда они вырвут ружья из рук солдат или заставят их опустить штыки — они будут поставлены к стенке и расстреляны.