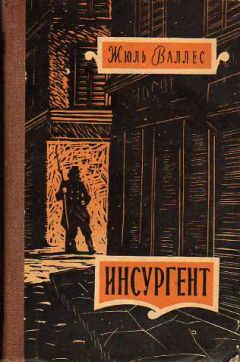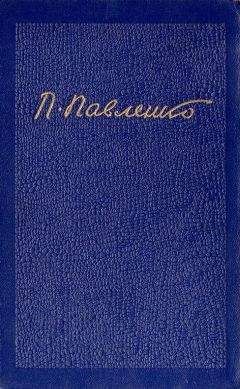Жюль Валлес - Инсургент
Он знает меня, он видел карикатуру, где я изображен собакой с привязанной к хвосту кастрюлькой.
— Как! Это вы!.. Но ведь вы — тот молодец, которого я ищу! Вас-то мне и надо! Они чуть было не распотрошили вас?.. Сорвалось!.. Но они все равно способны сослать вас в Кайенну![125] Да, да!
Он прав. Из министерства юстиции поступил приказ передать меня жандармам.
Четыре черных силуэта обступили меня, и мы двинулись в путь, как китайские тени.
Наши шаги гулко раздаются в ночной тиши; полуношники подходят и глазеют на нас.
Остановка в полицейском участке. — Допрос, обыск, заключение в кутузку.
Нарочный привозит распоряжение о переводе меня в арестный дом.
Я устало опустился на деревянные нары, между нищим с культяпками, растравляющим свои язвы каким-то снадобьем, и человеком с интеллигентным, но совершенно растерянным лицом. Увидев, что я сравнительно прилично одет, он придвинулся вплотную ко мне и тихо, сквозь сжатые зубы, чуть не задыхаясь, зашептал:
— Я — скульптор... Я не успел намочить глину... Не дал поесть кошке... Я шел купить ей печенки... меня схватили с республиканцами...
У него захватило дыхание.
— А вы? — с трудом вымолвил он.
— Я не шел за печенкой... У меня нет кошки, у меня есть убеждения.
— Как ваше имя?
— Вентра.
— Ах, боже мой!
Он отодвигается, закутывается в свое пальто и прячет голову, как страус.
Но скоро он высовывает ее и дрожащим голосом, почти касаясь моего уха, шепчет:
— Когда придут полицейские, сделайте вид, что не знаете меня, хорошо?
— Да, да! Спокойной ночи! Эй вы, калека, уберите-ка ваши крылышки!
Утро. На скульптора жалко смотреть.
Его допрашивают первым.
— Я ничего не сделал... Я шел за печенкой для кошки... Я — скульптор... Я не намочил глину... Меня освободят?.. Я стою за порядок...
— За или против — нам наплевать! Уведите его!
Я — стреляная птица.
Тюремный сторож догадывается об этом, и мы с ним болтаем по дороге в камеру.
— Вы уже сидели здесь?.. Я это сразу понял! Вместе с Бланки? Делеклюзом? Межи?..[126] Я знаю всех этих господ... Употребляете? — И он протягивает мне табакерку.
Мне разрешили выйти подышать свежим воздухом.
Правда, я по-прежнему меж четырех стен, но зато под открытым небом.
Какой-то шум отвлекает на минуту тюремщиков, и они бросают заключенных на полдороге.
Какой-то человек подходит ко мне и трогает меня за плечо... Нет, это не человек, а какой-то призрак, выходец с того света!
— Вы не узнаете меня?
Мне кажется, что я действительно видел уже где-то этот потертый сюртук, болтающийся, как пустой мешок.
— Я скульптор.
— Да, помню... глина... кошка... печенка...
— Как вы думаете, что они сделают с нами?
— Расстреляют.
— Расстреляют!.. Нас!.. А между тем у меня там кое-что было!
— Где это?
— Разве я вам не сказал своего имени?
— ?..
— Я Франсиа.
Франсиа! Вот тебе на! Ведь это ему было поручено изваять статую воинствующей Республики с обнаженной шпагой в руке.
Я все жду, что меня вызовут на допрос, жду с мучительным беспокойством.
Один из сторожей сообщил мне по секрету, что на днях перед зданием Палаты была бурная демонстрация.
Он утверждает, что сегодня после полудня будет еще одна во главе с Рошфором; его должны вызволить из тюрьмы Сент-Пелажи.
У следователя— Милостивый государь, вы обвиняетесь в подстрекательстве к гражданской войне.
Хочу объясниться, но чиновник останавливает меня взглядом и жестом.
— За то время, что вы находитесь здесь, милостивый государь, великие бедствия постигли Францию. Она нуждается во всех своих сынах. Лицо, приказавшее арестовать вас, просит меня теперь открыть перед вами двери тюрьмы. Вы свободны.
Он сказал это совсем просто, и голос его задрожал при словах «великие бедствия».
Я вышел из дома заключения еще более печальный, чем вошел туда.
Я подбежал к афишам. Эти огромные белые плакаты, расклеенные на стенах, испугали меня: я словно увидел бледный лик моей родины.
Что там такое?..
Признайся, Вентра, что в глубине души ты был скорее несчастен, чем доволен, узнав, что император одержал победу. Ты страдал, поверив слухам о победе, почти так же, как горбун Наке[127], которого это заставило плакать от злости.
И вот облачко заволакивает твои глаза, на них показываются слезы.
Двое суток провел я, сосредоточив все свои мысли и чувства на известиях оттуда, прислушиваясь к эху далекой канонады и к шуму улицы.
Все тихо.
XVII
Десять часов утра. Стук в дверь.
— Войдите!
Передо мной высокий детина с мертвенно-бледным лицом, заросшим густой черной бородой, в очках, какие носят немецкие студенты, и в шляпе калабрийского бандита.
— Вы не узнаете меня?
— Право, нет.
—Я — Бридо[128]... Один из ваших учеников в Кане.
Да, да, припоминаю. Мальчик с такой фамилией был как раз в том отделении, которому я, будучи временным заместителем учителя риторики, рекомендовал ничего не делать.
— Ну что же, как сложилась ваша жизнь?
— Я подыхал с голоду! Получив аттестат бакалавра, я решил поступить на юридический факультет. Мой отец мог заплатить только за три семестра, не больше. Он — мелкий деревенский нотариус. Я считал его богатым, пока он однажды со слезами на глазах не признался мне, что он очень, очень беден... Полагаясь на свою репутацию хорошего ученика, я начал бегать по учебным заведениям... Не тут-то было! У тех, кто учился в Париже, есть еще какие-то связи, протекция их бывших учителей... Но провинциал, будь он семи пядей во лбу, мечтающий приложить свои знания между Монружем и Монмартром[129], может, не раздумывая, броситься в воду вниз головой!.. У меня оказалось больше мужества... Я стал рабочим, гравером. Я не такой уж искусный мастер, но и моим неловким резцом мне все-таки удается заработать себе на жизнь... Сколько раз вспоминал я вас и то, что вы говорили нам по поводу университетского образования. Тогда я думал, что вы шутите! Ах, если б я вас послушал!.. Впрочем, дело не в этом. Я пришел не затем, чтобы хныкать перед вами. Вот уже три года, как я принадлежу к одной бланкистской секции. Секции хотят выступить!
Я схватил его за руки.
— Вы говорите, что секции хотят выступить?.. Так вот, не рассказывайте мне об этом, сохраните вашу тайну. Я не хочу, чтобы на меня легла какая-то доля ответственности за попытку, заранее обреченную на неудачу; единственным результатом ее будет то, что многих славных ребят засадят в Мазас и в Центральную тюрьму.
— Я выполняю возложенное на меня поручение. Вчера у нас зашел разговор о людях, которые не останутся равнодушными, если в каком-нибудь углу раздастся пистолетный выстрел. Ваше имя Бланки назвал первым; он знает вас по рассказам товарищей и решил, что вас нужно предупредить... Теперь вы можете поступать, как вам будет угодно. Я знаю, что вас не затащишь туда, куда вы сами не хотите идти, но все-таки будьте сегодня в два часа пополудни у казармы Виллетт — и вы увидите начало восстания.
Половина второгоЯ пришел.
Они тоже пришли, черт возьми! Всего несколько человек: Бридо, Эд[130], — он делает мне знак головой, на что я отвечаю подмигиваньем, — смуглый субъект в фуражке, с пенсне на носу, сгорбленный старик с длинным кротким лицом, да плюс еще какой-то тип.
Бланки стоит немного поодаль, возле бродячего фокусника.
Тра-та-та!
— Милостивые государыни и милостивые государи, покупайте мой порошок для чистки!.. Представьте себе, что вы в гостях у жены министра и снимаете нагар со свечи... Тогда вы сыплете немного моего порошка... И скоморох, не переставая расхваливать свой товар, подходит время от времени к красно-бурому барабану, чтобы выбить на нем дробь своей магической палочкой.
Уж не на этом ли ярмарочном барабане будут бить призыв к атаке, любезный Бридо?
— А, гражданин Вентра! Давно уж нам нужно свести с вами счеты. Наконец-то вы мне попались... теперь уж я вас не выпущу.
Я случайно столкнулся нос к носу с одним механиком из этого квартала; у нас с ним не раз бывали стычки. Он — коммунист, я — нет.
Он и в самом деле не выпускает меня и заставляет проводить его немного.
Он пристает ко мне с вопросами, я отвечаю. Но мысли мои далеко. Я невольно прислушиваюсь, не донесет ли теплый ветерок, овевающий наши головы, эхо перестрелки; и в ту минуту, когда мой собеседник спрашивает в упор, какие у меня имеются возражения против коллективной собственности, — я думаю о Бридо, об Эде и о Бланки.