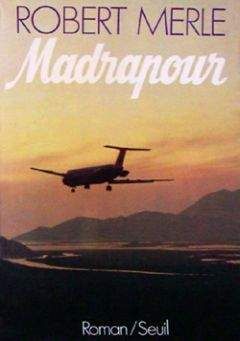Курбан Саид - Девушка из Золотого Рога
У него пересохло в горле, он жадно выпивает коктейль и смотрит на Сэма Дута.
— Индокитайская гамма, — говорит он моргая. Сэм Дут подзывает к себе метрдотеля. Через пять минут музыкант уже сидит перед Ролландом. На столе стоят бокалы с вином. Джон Ролланд высокомерно говорит по-английски:
— Странную музыку Вы играете, она течет в нисходящей и восходящей гамме. Такие жалобные минорные звуки. Ее надо бы играть на флейте.
— Вы правы, — отвечает музыкант, не притрагиваясь к вину. — Это совсем другая полифония, она строится на трезвучии прима-кварта-квинта. Увеличенные секунды позволяют распознать происхождение всей гармонии.
Джон Ролланд слушает пианиста и чувствует, как его охватывает грусть. «Я просто законченный пьяница, — думает он. — Я приехал в Европу и болтаюсь по ночным барам, вместо того, чтобы знакомиться с культурой».
Музыкант напевает какую-то песню, постукивая по столу в такт мелодии. Джон Ролланд внимательно слушает его и говорит:
— Эта песня должна при каждом повторении повышаться на одну секунду, а последнее созвучие создает естественный переход в новую тональность.
Он напевает и пианист удивленно слушает его.
— Пейте, — говорит Ролланд и протягивает ему бокал.
— Спасибо, я не пью, — вежливо отвечает музыкант. — Я мусульманин, черкес из Стамбула. Когда-то состоял на службе в императорской гвардии.
Услышав это, Сэм Дут спешно расплачивается и Джон Ролланд почти бегством покидает заведение. Такси привозит их в отель «Эден». Входя в номер Ролланд дает клятву начать с утра новую жизнь. Сэм Дут задумчиво кивает, глядя перед собой.
Джон Ролланд просыпается в полдень. От минувшей ночи осталась только головная боль и смутные воспоминания о волнующей музыке. «Это Европа, — думает он. — Берлин — город труда и культуры. Я должен вести себя достойно».
Он одевается и небрежно бросает Сэму:
— Хептоманидес, я иду в музей. Мне необходимо вдохновение, а потому я хочу прикоснуться к культуре. Ты оставайся здесь, тебе там нечего делать.
Выйдя из отеля, он в нерешительности останавливается, не зная, где находится музей и ощущая страх при мысли о холодной темноте больших залов. Он поворачивает налево и оказывается перед большой церковью, входит в нее и с видом знатока рассматривает романские пилоны.
— Четырнадцатый век, не так ли? — спрашивает он у служителя церкви.
— Никак нет, — отвечает тот. — Эта церковь построена в память о кайзере Вильгельме. Начало двадцатого века.
Джон Ролланд торопливо покидает церковь. Он идет по широкой улице, названной в честь великого философа Канта и одно только сознание этого переносит его в атмосферу высокой культуры.
«Какой прекрасный город», — думает он, останавливаясь перед витриной магазина и разглядывая яркие ковры с мягкими, закругленными узорами. Между коврами лежат пожелтевшие персидские рукописи с выцветшими чертежами миниатюр: принцы с миндалевидными глазами пьют из золотых чаш, а на заднем плане, грациозно подняв ногу и готовый к бегству стоит испуганный олень.
Джон Ролланд внимательно рассматривает витрину.
«Отлично!» — решает он, уверенный в том, что в этом мире рукописей и миниатюр, он уж точно не запутается. Он думает о варварах, которые сидят в этом магазине и разбираются, вероятно, в этих персидских миниатюрах так же, как и он в романском архитектурном стиле. Смутная жажда мести просыпается в нем, ему хочется также унизить этих варваров, продающих ковры, как это проделал с ним служитель церкви.
С этим намерением он входит в магазин. Пожилой мужчина с маленькими, усталыми глазами поднимается ему навстречу.
— Покажите мне персидские миниатюры, — требует Ролланд на английском языке.
Старик кивает и перед глазами Джона предстали ландшафты, сцены охот и пиршеств.
— Вот, — говорит старик, указывая на стайку ангелов на облачном небе, — это копия великого Бухари, из школы Ахмеда Фабризи.
— Это не то, что мне нужно, — говорит Джон Ролланд, прикусив губу. — Меня интересует персидский ландшафт с легким китайским оттенком. Что-то вроде того, что Джани рисовал для шейха Ибрагим ель — Гюльшани.
Старик внимательней всматривается в лицо посетителя.
— К сожалению, — говорит он на ломанном английском, — у нас этого нет. Пятнадцатый век у нас слабо представлен. Но есть кое-что из времен Великого Аббаса. Видите здесь пожелтевшие осенние деревья, с отсветом садящегося солнца, все покрыто легким туманом. Это может быть Мани, так нежны краски!
Джон Ролланд смотрит на лист и бережно проводит рукой по изображению пророка Иона в одеянии персидского принца.
— Я беру его, — говорит он, — хотя это индийская школа, декаденство. Я хотел бы приобрести что-нибудь живее, более жизненное, наподобие Шуджи эд-Даулеха. Вы понимаете, что я имею в виду?
— Я все прекрасно понимаю, Ваше императорское Высочество, — отвечает старик по-турецки. — Я знаю точно, что Вам надо, но у меня этого больше нет.
Джон Ролланд удивленно поднимает голову. Старик склоняется перед ним в низком поклоне. Дверь магазина закрыта.
Джон Ролланд делает резкое движение в сторону двери. Ему хочется бежать отсюда. Душный сладковатый воздух магазина, ковры и миниатюры, действительность и мечты, прошлое и настоящее — все стремительно закружилось у него перед глазами.
— Ваше Высочество, — продолжает старик, — это моя вина. Накажите меня. Я должен был предвидеть, что однажды Ваше Высочество придет и потребует от меня то, что ему принадлежит, и то, что я так легкомысленно отдал. У женщин нет ни разума, ни терпения. Я же, пожилой человек, я должен был ее остановить.
У Джона Ролланда темнеет перед глазами. О чем говорит этот старик? Что он от него хочет? Руки старика дрожат, он смущенно сжимает их.
— Я виноват, принц, — повторяет он. — Я виноват, Азиадэ вышла замуж, я этому не помешал. Я достоин смерти!
Ошеломленный Ролланд стоит посреди комнаты, не зная, что с ним происходит, забыв о тоненькой книжке в кармане, выписанной на имя Ролланда, чувствуя себя разоблаченным.
— Кто вы? — спрашивает он на мягком дворцовом турецком языке своих предков и в голосе его внезапно зазвучали повелительные нотки.
— Ахмед паша Анбари. Азиадэ — моя дочь.
— Вот оно что, — говорит Ролланд, вспомнив о письме, присланном на имя изгнанного и пропавшего без вести принца. Интересно, что произошло с этой женщиной, которая была ему предназначена?
Ахмед паша продолжает стоять, склонив голову. Весь его облик выражает смирение и благоговение, ведь он разговаривает с принцем из священного Османского семейства. Он подробно рассказывает об Азиадэ, о чужом мужчине, а принц сердито слушает его, окруженный коврами со всех сторон, совсем как во дворце на Босфоре.
— Позор, — возмущается принц. — Позор!
Как же так, кто-то посмел отнять у него то, что по праву принадлежит ему.
— Позор! — повторяет он и в порыве гнева ударяет рукой по ковру. — И ты еще пользовался нашим покровительством, мы же вытащили тебя из грязи и осыпали своей милостью! В пустыню тебя, в изгнание!
Тут он вспоминает, что зовут его Ролланд и что он всего лишь сценарист из Нью-Йорка. Вся эта ситуация кажется ему смешной.
— Ну хорошо, — говорит он миролюбиво, заметив, что паша уже собирается падать перед ним на колени. — Хорошо.
Он протягивает ему руку, и старик почтительно касается ее губами.
— Пойдемте, поедим где-нибудь, — неожиданно предлагает Ролланд. Ему уже опостылел спертый воздух этой лавки, тусклый свет красных ковров и мягкие краски миниатюр. — Пойдемте.
Паша озадаченно смотрит на него.
— Это большая честь для меня, — говорит он, думая о яде, который принц подсыплет ему в пищу и о смерти, которую он несомненно заслужил.
Но принц и не думает о яде. Они отправляются в «Кемпински» и заказывают обед строго по законам древней империи, без алкоголя и без свинины. Оказавшись в привычной обстановке, Ролланд понимает, как ему следует держаться.
— Я больше не принц, — говорит Ролланд во время еды. — Я теперь писатель, артист, так сказать.
— Это королевская профессия, — отмечает паша. — Многие Ваши светлейшие предки были великими артистами.
— Я не великий артист, — возражает Ролланд с серьезным видом. — Все мы смертные сыновья вечного Отца, а предназначением искусства является выражение через ощутимое и видимое Его незримого духа. Если человеку ничего другого не удается, кроме как изображать сына — а мне только это и удается — тогда его искусство всего лишь незначительный и поверхностный труд. Если он стремится, только абстрактно изобразить Отца, то это тоже не искусство, а метафизика. Обратить в слово то бессмертное, что живет в нас — это волшебство. Слово должно распознавать материю, как Адам познал Еву. Но мое слово на это неспособно.