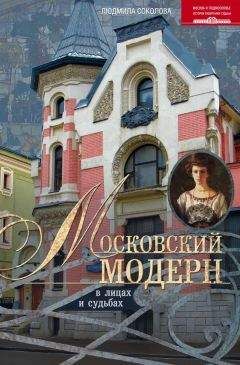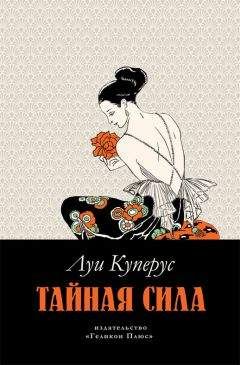Рихард Вайнер - Банщик
— Лукиняк, осел, что ты уставился на меня, как на привидение, и почему ты так далеко?
Однако Лукиняк, который вовсе не был далеко, а наоборот, сидел совсем рядом со своим офицером, по-прежнему стуча зубами, смотрел на поручика так пристально, что казалось, будто он пронизывает его взглядом насквозь, и отвечать не собирался. Тут поручику пришло в голову, что денщик испуган прежде всего взрывом его злости, хотя нельзя было исключить, что грохот шрапнели тоже сыграл свою роль, допускал офицер. Поэтому он, будто кающийся грешник, схватил Лукиняка за обе руки и проговорил:
— Как ты сказал? Паршивый день? Да уж, бывают и получше, — ответив этими словами на замечание денщика, произнесенное им добрых полчаса назад. Но офицеру казалось, что его ответ последовал сразу.
Однако дело не ограничивалось только сумятицей чувств и потерей ориентации во времени; у него вдобавок было некое неясное ощущение, что с ним что-то творится, и он то верил, то не верил этому ощущению; беря Лукиняка за руки, он поддался желанию сблизиться с кем-нибудь, близким его душе, и, за неимением под рукой никого другого, вообразил таким существом своего денщика, которого, впрочем, очень любил. И, пока он вот так держал его за руки, Лукиняк принял для него облик Марианны, что было очень забавно, ибо он продолжал выглядеть, как Лукиняк… причем особенно четко виделась офицеру родинка на шее девушки, которую он часто целовал. Чем дольше он глядел, тем быстрее расплывался образ Марианны, как бы вновь переплавляясь в обычного Лукиняка. Но в течение этой минуты поручик так отчетливо видел свою любовь, что каждая деталь воспоминания слилась со всеми остальными, так что можно было сказать, что он буквально жил любовью, вот почему поручик сказал:
— Спасибо тебе, Лукиняк, ты славный малый.
Не то чтобы все то время, что миновало со взрыва, и потом, после этой минуты, все те мгновения, что поручик находился в сознании, поросли видениями прошлого и источали сладость возвращения в прежние счастливые времена. Этого не было, потому что ни одно реальное воспоминание не взошло. Но если бы на одной полоске ткани мы последовательно изобразили ход его прошлой жизни, а на другой полоске все то, что делалось в нем теперь, — и совместили бы эти полоски, и принялись бы их двигать, но только в противоположных направлениях, то получили бы приблизительное представление о том мглистом мире событий и впечатлений, по которому путешествовал поручик.
Когда он отогнал видение Марианны, ему захотелось — сообразно с тем странным, что он смутно чувствовал, — принять живописную, возможно, даже театральную позу, но вместо этого он лишь как-то судорожно искривился, потому что, совсем уже собравшись воплотить свой замысел (если тут можно говорить о замысле), сообразил вдруг, что Марианне вряд ли бы понравилось нечто подобное. Кроме того, он немного стеснялся Лукиняка, который, держа его за руку, растерянно глядел в сторону, в пустоту траншеи. Положение бедняги Лукиняка было незавидным. Он находился в несколько ином состоянии, чем его офицер, и инстинктивно это чувствовал, но так как возникшие между ними на мгновение отношения — или неотношения — не прекращались, ему казалось, что он висит в вакууме. К счастью, в окопе раздались голоса, в которых безошибочно угадывались гонцы-глашатаи новой, небывалой необычайности, хотя это не были ни выкрики, ни приглушенный шепот. Их сопровождало нечто похожее на плеск, как будто бы на берегу плавно текущей реки собралась стая прачек и все они принялись одновременно полоскать белье. Как только раздались эти голоса, стало ясно, что они несут с собой некое движение, хотя первейшим итогом этого было то, что все съежилось в полной неподвижности. Обоих людей, державшихся за руки, охватило коловращение — стоило им разжать пальцы. Лукиняк, впрочем, все еще смотрел в сторону, и его удовлетворенность тем, что ему теперь есть куда смотреть, как-то материализовалась. Можно было разобрать слова и короткие фразы — не очень связные, перепутанные и перекрещивающиеся, которые как будто старались взаимно стереть смысл одна другой. Пока трудно было предугадать, возникнет ли из этого эмбриона хаос или некий новый порядок, однако опытные уши Лукиняка и поручика сразу же распознали, что слова и фразы, которые для каждого из них имели свой оттенок, проистекают из одного источника.
— Адъютант. — Майор у телефона? — Чего уставился? Не понимаешь? Ну?
— Но сейчас время кофе! — Ни шагу оттуда, ясно? — Разве я не приказал, чтобы ножницы для проволоки всегда были под рукой? — Что? — В сторону! Внимание!!!
Искорки этих разговоров пронеслись слева сквозь Лукиняка и его офицера, как сквозь асбест, не поджигая, но опаляя, а справа возник уже небольшой пожар:
— Да что за глупости! — Кто это сказал? А сейчас… — И что с того, такое тут каждый день. — Я и с места не тронусь. — Что, ты с места не тронешься? Ах ты! Ну, подожди!..
Внезапно Лукиняк повернулся к поручику и, беспомощно глядя на него, сказал:
— Будет наступление.
— Откуда ты знаешь? — спросил он в ответ.
— Будет, — проговорил денщик.
Он, собственно, и сам это чувствовал — с тех пор, как услышал в траншее эту тихую сумятицу голосов; для него она звучала, точно во сне. И если он спросил «Откуда ты знаешь?» (а спросил он об этом с недоверием), то лишь потому, что обрадовался бы, если бы Лукиняк усомнился; ибо денщик представлялся ему теперь как некто очень сведущий, и его неверие или хотя бы сомнение изгнали бы из души офицера предчувствие будущего наступления. Однако Лукиняк не только не стал отрицать, но даже сам, первый, высказал эту мысль и потому превратился для поручика едва ли не во врага. Но лишь до тех пор, пока еще можно было хоть немного сомневаться в вероятности наступления. В этот промежуток времени — очень короткий — поручик не обращал внимания на присутствие денщика. Он сел к столику с перископом, оперся подбородком на руки и «погрузился». А погрузился он в воспоминание о вечернем настроении, которое охватывало его дома возле деревенского пруда, перед началом лягушачьего концерта. И — будучи очень скоро вырван из этого состояния топочущим грохотом траншеи — он видел себя посреди тишины, которую ничуть не нарушало кваканье лягушек. Дурнота? Да. Но вместе с ней — тесно переплетшись (тут он вспомнил спаривающихся жуков) — его мучила и душевная боль; в нем как будто после самоопыления выросли воспоминания о несуразной смеси всего, что означало в его жизни унижение, позор, обман, разочарование и боль. Он показался себе измазанным грязью и невольно оглядел свою военную форму. Особенно ему не понравились сапоги, в которые въелась давняя пыль: смешавшись с ваксой, она образовала нечто вроде корки. Лукиняк заметил его взгляд, извлек откуда-то тряпку и опустился на колени, чтобы вытереть своему офицеру сапоги. И тут новый оглушительный удар, которому предшествовал жуткий вой: восемнадцатисантиметровый снаряд, навещающий окопы ежедневно по разу или по два, толстый дядюшка. Он упал сзади. Разрыв приказал всей суматохе надолго упасть на колени, но поручик, который, пока денщик вытирал ему сапоги, ушел от пруда и отправился домой, где тиканье старинных часов мало-помалу заглушало кваканье лягушек, так вот, поручик оказался после этого взрыва в новой стадии тишины. Прежде он никогда не думал об этом, но теперь внезапно осознал, что тишина, которой он раньше наслаждался, похожа на ощупь на поверхность аккуратно оструганной доски, или же — если в настроении тишины появлялась печаль — на пребывание в пространстве, образованном несколькими такими досками. Сейчас полый и режущий взрыв наполнился материализованными звуковыми волнами гигантского камертона, загудевшего от яростного звона, причем эти волны не неслись плавно, а застывали, подобно нитям, которые выпускает закукливающийся шелкопряд, застывали в отвратительно запутанных цепочках, напрочь забивших пространство, где он находился, так что поручик оказался спеленутым отвердевшим воздухом и не мог пошевелиться, хотя нити эти вовсе и не пытались сколько-нибудь помешать его телодвижениям. И это служило остовом, к которому, как мухи к клейкой бумаге, прилеплялось все то, что достигало его слуха. Он слышал все: и концерт, рокочущий над их головами, над полем, по которому им, по-видимому, вскоре предстоит идти в атаку (мысль эта вызывала у Лукиняка примерно то же неприятное чувство, какое испытывает человек, находящийся под крышей, когда понимает, что ему вот-вот придется выйти в ненастье без зонта и плаща); и вновь начавшуюся беготню в окопах — вплоть до мельчайших деталей, хотя они и наслаивались друг на друга; и пульсирование крови в висках, жилах и сердце; и даже неровный ход зарождающихся мыслей. Но, раз прозвучав, ничто не уходило, ничто не умолкало. Грохот, звуки и движение оставались; немедленно после своего появления на свет они застывали и, обладая всеми акустическими качествами, тем не менее почти не были звуками, потому что лишены были — течения. Вот почему слух уже не справлялся с этой окоченевшей недвижностью; нервы отказывались реагировать, и место реакции органов чувств заняла та, решение о которой принимало подсознание. И подсознание ввергло его в суматошную тишину… И вот, когда он, терпеливо перенося это отвратительное состояние, которое поглотило его полностью, машинально застегивал на себе портупею, нечто вновь открыло перед ним ту тишину, что предшествует лягушачьему концерту, и он душой ощутил боль, словно от удара головой об угол стола, и вскоре после этого погрузился в бредовую уверенность, что и за всем этим кроется лягушачье кваканье. И от отчаяния ему захотелось смеяться. Он засмеялся, и — фи! — теперь и его собственный смех наложился на спекшуюся массу ударов, звона, гомона, свиста, звяканья, топота и плеска и стал самым верхним ее слоем, ее кожей, тем единственным, что подавало еще признаки жизни. Впрочем, едва заметные.