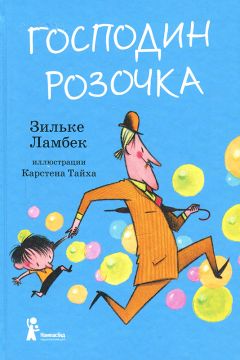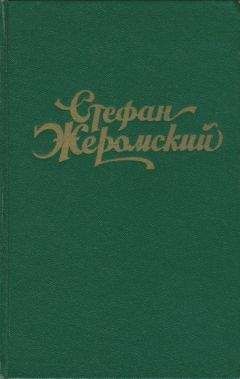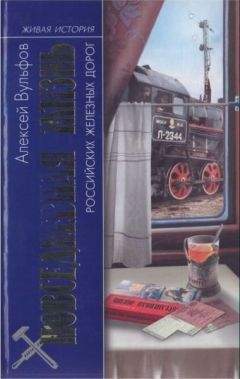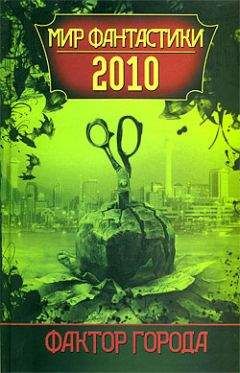Стефан Жеромский - Луч
— Меня? За что?
— Как за что? Если бы не вы…
— Я вас прошу, не надо об этом говорить! Раз и навсегда. Вот перед вами целый мир, жизнь, солнце, вон какой луг. Нужно обо всем забыть…
— Не так‑то это легко…
— Не надо, не надо… — прошептал он с нежностью, которой не в силах был скрыть.
Глаза пани Марты были как всегда потуплены, но щеки чуть — чуть порозовели, и губы сложились в чудную улыбку.
— Если бы я могла сделать для вас хоть десятую долю того…
— Вы непременно хотите вознаградить меня?
— Я хотела бы выразить вам…
— Я сам себя вознагражу за все, — быстро, жестко, и решительно проговорил пан Ян напряженным голосом.
Она подняла на него свои прекрасные глаза, но прежде чем Радусский успел уловить их выражение, опустила их так, точно хотела сказать: да… да…
VIIIНа первых порах «Лжавецкое эхо» не произвело особенно сильного впечатления на читающую публику. Число подписчиков увеличивалось, но понемногу. В «Лжавецкой газете», которая с лицемерным радушием приветствовала первые номера «Эхо», среди шумных похвал стали появляться некие фигуры умолчания, вопросительные знаки, намекавшие на то, что, собственно, «Газету» никогда не соблазняли известные качества противника, а в один прекрасный день с ее страниц скромно прозвучал сдержанный, истинно братский совет: дескать, пора бы органу, который издается в нашем Лжавце и предназначен, «надо полагать, для верующих, для добрых католиков», проникнуться более религиозным духом. В следующем номере читателям была преподнесена основательная статья на тему о том, что такое мораль «истинная» и что такое мораль «независимая», сиречь «вольнодумная». Гжибович, читая эти вопросы и предостережения, вскидывал на переносицу пенсне и потирал руки, готовясь к пламенной отповеди. Радусский умерил его пыл и ничего не ответил. Он предвидел, что война так или иначе должна разразиться, и хотел оттянуть ее на как можно более продолжительное время. Вскоре владелец типографии, где набиралось «Эхо», ни с того ни с сего нарушил договор и отказался печатать газету, приведя весьма странные и невразумительные объяснения. Пришлось заключить договор с другой типографией, благо в Лжавце их было три, и понести при этом большие убытки, так как владельцы ее потребовали чуть ли не двойной платы. Однако ничего другого не оставалось, и Радусский принял их условия.
За все эти неприятности Радусского вознаграждала совместная работа с Гжибовичем. Это был неоценимый газетчик, человек, влюбленный в бумагу и типографскую краску. С того момента, как он обосновался в редакции, с ним произошло полное превращение: он ожил и развил бешеную деятельность. Он вел городскую хронику, одному ему известными способами первый получал подробнейшую информацию обо всем, что происходило в городе и в окрестностях, с бою брал объявления, вербовал подписчиков где только мог. Радусский получал бездну удовольствия, наблюдая его уловки, битвы, победы и поражения.
Немалую радость доставили ему тогда несколько доброжелательных писем из провинции. Один молодой акцизный чиновник восхищался идеями «Эхо» и заодно предлагал поместить его собственную работу о контрабандистах, своеобразный научный труд, явившийся плодом многолетних наблюдений, которые производились в самом широком масштабе, когда одна сторона пускала в ход огнестрельное оружие, а другая —
колья, ножи и когти. Этот труд носил не только этнографический, но и общественный характер и притязал на яркое и обстоятельное изображение контрабандистов «sine ira et studio»[28]. Второе, не менее благожелательное письмо прислал управляющий каким‑то имением. Он писал, что располагает уже готовой статьей о сельских батраках, которая опирается на материал, собранный в нескольких окрестных деревнях, и представляет всестороннее описание жизни сельскохозяйственного рабочего и его семьи. Эта статья содержит будто бы сведения о его заработке, о том, сколько и как он работает, где живет, что ест, сколько выпивает водки, каково его физическое, моральное и умственное состояние.
Корреспонденции из разных мест губернии поступали в изобилии. Иные были весьма обстоятельны и превосходны. В одной, например, хорошим языком и со знанием дела описывался кустарный промысел в маленьком местечке Палонки. Радусский сиял. Он не только требовал от корреспондентов готовые статьи, но и заказывал новые, обещая напечатать их целиком или в выдержках; он был уверен, что эти статьи заменят читателям полосу с переводами и обратят сердца местных жителей к их обиженным братьям из народа… И вдруг, в самый разгар переписки с друзьями газеты, случилось событие, которое заставило его выпустить перо из рук. В конце июня, днем, в типографию явился доктор Фаланты, вызвал Радусского на улицу и, переваливаясь на своих толстых ногах, сказал ему:
— Я пришел сообщить вам печальную новость, очень, очень печальную новость… Меня самого это… право же… Сегодня я был у пани…
— У пани Поземской?
— Да, сударь, у пани Поземской. Жена коллеги, как не помочь! Просит прийти, и я иду, невзирая на то, что платные пациенты… Но о чем говорить! Долг прежде всего! Так вот, я был у больной, осмотрел ее…
— Она больна?
— Да, сударь, плохо дело. Говорю вам это, как другу покойного. Она заразилась сапом. Форма как будто менее острая, но сомнений нет.
Лицо Радусского сморщилось и приняло какое‑то собачье выражение. Он стоял на тротуаре, выпятив губы, медленно двигая челюстью. Стопудовая тяжесть придавила его душу. Сердце замерло. Потом он шел рядом с доктором, внимательно слушал его медицинские объяснения, а сам не переставал думать о том, что этого следовало ожидать, что это надо было предвидеть, ведь были определенные и очевидные симптомы, хотя прежде ничего подобного ему и в голову не приходило. Поднимаясь вместе с толстым доктором по лестнице в квартиру пани Марты, он поддался сильнейшему обману чувств: ему послышался сквозь стены голос Поземского, не то стон, не то язвительный смех…
Пани Марта лежала одетая на софе в гостиной. Глаза ее бегали по сторонам, щеки лихорадочно горели, брови дергались в неудержимом тике, какого Радусскому никогда не приходилось наблюдать. Увидев вошедших, пани Марта залилась раздирающими душу, тихими, бессильными слезами. Она уронила голову на кожаную подушку, время от времени поднимая и опуская ее движением старой, погруженной в молитву женщины. В ее слезах не было жалобы, отчаяния или сожаления, только суровый упрек за бесконечные обиды, за обездоленную жизнь.
Радусский стоял возле софы, не двигаясь с места. Он был уверен, что однажды уже слышал этот голос, когда пела грязная, вонючая, тощая индианка, которую показывал в своем балагане бродячий фокусник; в перерывах между танцами она садилась на доски у грубо размалеванной кулисы и, баюкая озябшего, гадкого, больного, кашляющего ребенка, пела ему песню своей отчизны.
Радусский пробыл у больной недолго. Выйдя на улицу, он стал совещаться с доктором, предложил созвать консилиум. Лжавецкое светило охотно дало согласие, и в тот же день у постели пани Марты собрались врачи. Они довольно долго совещались и, как потом оказалось, пришли к определенному заключению. Пан Ян всю ночь и весь следующий день провел у вдовы, ухаживая за ней, как сиделка.
Поздно вечером, около одиннадцати, он вернулся домой, не раздеваясь прилег на диван и крепко заснул. Через два часа он вскочил, словно сброшенный с постели какой‑то неведомой силой. Была чудная теплая лунная ночь. В открытое окно из старого парка струился сильный, резкий запах нарциссов. Все уснуло, верней погрузилось в ночь и тишину. Нигде не слышно было ни малейшего шороха. В небесах, залитых лунным светом, были рассеяны легкие облачка, словно крылья и одежды херувимов, которые несут ночной дозор у дверей, невидимых глазу смертных. Бледный свет мертвенными пятнами лежал на ограде сада, на ее выщербленном каменном навесе и позеленевших замшелых столбах. Светлые блики трепетали в. зубчатой листве дикого винограда, казалось, колебля ее своей тяжестью, как блуждающие огоньки, проникали во мрак под густую листву, проскальзывали между иглами старой лиственницы. Там, в темно — зеленой глубине, лунный свет колыхался, скользил и прядал, озаряя мокрые травы и чашечки скромных цветов. На посыпанных песком дорожках, открытых холодному свету, словно призраки срубленных деревьев, лежали таинственные тени толстых стволов, ветвей, побегов и листвы.
Радусский сел у окна и опустил голову на руки. Его обняла ночная тишина и нечто стократ лучшее, чем сон, покой, полный покой. Все чувства, раздиравшие душу, — сострадание, жалость, — сейчас проходили перед ним, как отвлеченные образы, совершенно не задевая его. То была минута укрепления духа, минута равновесия, здоровья и силы. Он сдирал струпья со своих застарелых ран, уже не ощущая боли, бесстрастно и холодно исследуя их. Это не было ни мимолетной реакцией, чуждой его натуре, ни новой обманчивой формой все тех же чувств. Он понимал, что вступает в новый, более совершенный фазис своей жизни и должен развернуть все свои силы. Испытывая потребность в движении, он оделся, накинул летнее пальто и вышел из дому.