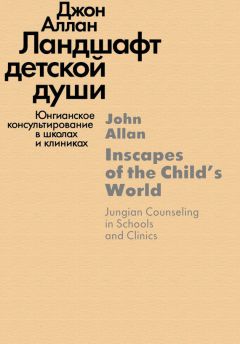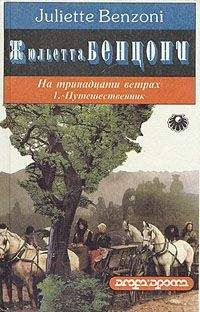Мария Корелли - История детской души
Неужели вправду он был еще такой маленький мальчик? Ведь, ему уже пошел одиннадцатый год… Его мама в ту ночь называла его своим малышом — но это еще ничего не доказывало… при воспоминании о ее нежности больно слышалось его наболевшее сердце… и он старался не припоминать как, вся освещенная бледным лучом месяца, она глядела на него, целуя его в последний раз… но было ли то действительно — последний раз? — увидит ли он ее когда-нибудь? — с тоской невыразимой спрашивал он себя… Теперь времени для размышления было у него очень много — профессор предоставил ему полную свободу и вообще был замечательно добр к нему. Лионель это чувствовал и был благодарен. Никогда не поминая о своей благодарности, он выражал ее по-своему: он ежедневно заботливо чистил большую, уродливую шляпу профессора, и подавал ее ему — бережно расправлял и растягивал вывернутые пальцы его широких, лайковых перчаток, и аккуратно клал их перед ним на стол — он старательно, изо всех сил, протирал серебряный набалдашник его палки и никогда не забывал поднести ему, перед обедом, бутоньерку из самых красивых цветов. Поистине, было достойно удивления — и то недоумение, которое вначале возбуждала в знаменитом ученом эта о нем забота, и то смягчающее воздействие, которое она вскоре возымела на него! Профессор был столь мало верен самому себе в эти тихие, ясные дни, проведенные в Клеверли, что не раз принимался рыться в далеких воспоминаниях своей юности, чтобы воскресить в своей памяти давно забытые волшебные сказания… тщательно приводил он собранные отрывки в последовательный порядок, чтобы занимательным рассказом развлечь и заинтересовать Лионеля. Однажды ему пришло на мысль рассказать ему в «волшебной форме поэтичную классическую легенду — «Амур и Психея»: — хотелось ему видеть, как мальчик разберется в таинственном ее смысл!:.
Окончив свою утреннюю прогулку, они присели отдохнуть на зеленый холмик, с которого, сквозь трепещущие листья деревьев, виднелось далекое, лазурное море. И здесь, своим хриплым, грубым голосом, которому он напрасно старался придать некоторую нежность, профессор рассказал умилительную повесть о блаженстве Психеи — до той роковой ночи, когда, засветив свой светильник, она приподняла его над спящим таинственным небожителем, желая очами видеть черты его… — загремел гром — наступила тьма — светильник упал и погас… и в тихий час полуночный послышался шум как бы могучих крыльев. — Чу!… это любовь отлетала… одна осталась Психея… И с тех пор, она одинока, и слезы льет, и ищет то, что утрачено было ею — что она распознала и больше не может найти…
Лионель слушал, затаив дыхание — его глубокий взор то задумчиво устремлялся вдаль, то внимательно останавливался на морщинистом лице профессора. Он долго молчал и наконец промолвил:
— «Как это хорошо… очень мне нравится эта сказка — но смысл ее, ведь, совсем серьезный, не правда-ли? Можно ли мне вам сказать все, что я об ней думаю?»
Профессор утвердительно кивнул головой, и Лионель начал тихим, задумчивым голосом:
— «Видите-ли, Психея не знала — и она захотела узнать… не то же ли делаю и я, и вы, и все? Тогда и мы зажигаем светильники и стараемся разглядеть, что вокруг нас и, быть может, воображаем, что открыли Атом — и вдруг настигает нас тьма — и мы умираем — светильники наши потухают! Но шума крыльев — мы не слышим… Если бы слышали его, т. е. шум крыльев, мы бы чувствовали, что Кто-то с нами был и от нас ушел — и как стремились бы мы — туда, за ним!… Может быть, когда мы умрем, мы шум крыльев услышим, и тогда узнаем то, что теперь узнать не можем, потому что светильники наши так быстро гаснут…»
Профессор ничего не возразили; он не мог противоречить тому, что так логично изложил мальчик. Лионель поднял вверх свое личико и еще понизил голос:
— «А для тех, кто верует во Христа — вот для них и есть — шум крыльев! потому что, ведь, они говорят: „Он воскрес из мертвых и вознесся на небо“ — и они всегда ощущают, что есть Кто-то, вслед за Кем они хотят идти… как отрадно, должно быть, для них это чувство!» Тут профессор Кадмон-Гор, если бы дал себе волю, охотно пустился бы в сложные аргументации, — но перед этим маленьким, хилым ребенком, удрученным горем, он не решился развивать свои безотрадный теории, и милосердно промолчал.
— «Какое чудовищное преступление воспитывать этого ребенка без всякого верования!» — вдруг пронеслось в уме его, точно озаряя его нестерпимым, ослепительным светом… и сердце его сжалось до боли… Ошеломленный проявлением этого, ему незнакомого, чувства, он старался побороть его — но, и скрытое в тайнике его души, оно, помимо его воли, давало о себе знать, наводя его на мысли, который томили и смущали его. Назойливый внутренний голос предлагал ему ряд вопросов, подобных следующим: — «Хорошо-ли отнимать веру, когда взамен ее — дать нечего?» «На место веры мы ставим разум,» отвечал профессор. — «Но,» продолжал голос, «разум легко пошатнуть на его престоле! Горе — побеждает его, — страсть — его пересиливает. Восторги любви безумно влекут в бездну греха, отчаяния, смерти… Горе, горькое, одинокое горе, доводит до исступления, до потери всякого сознания… и что тогда может разум? Только вера одна спасти может, — вера в Бога Любви — и слова: „кто соблазнить единого из малых сих, верующих в Меня — тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею, и потопили его во глубине морской,“ должны во веки лечь проклятием на всякого, мужчину или женщину, кто словом, делом, или примером силится расшатать и уничтожить эту единственную опору всякой души страждущей, изнемогающей в житейской борьбе.»
Так рассуждал внутренний голос, — профессор явственно слышал его и приходил к заключению, что умственные его способности, видимо, ему изменяют… Что-то странное совершалось в нем, — что-то, чего он определить не мог словами, — что-то, что со временем могло сделать его мудрее, нежели он когда-либо считал себя!
В эти мирные, совершенно праздные дни пребывания в Клеверли, Лионель часто спускался на берег моря и там по долгу сиживал, беседуя с моряками, которым очень полюбился маленький барин. Желая доставить ему удовольствие, они частенько брали его с собою, когда уходили далеко в море на ловлю, — но эти прогулки не особенно живительно действовали на Лионеля: — с них он возвращался как-то и печальнее и бледнее.
У простых этих людей всегда бывали в запасе какие-нибудь раздирающие рассказы, то о кораблекрушениях, то об утопленниках, выброшенных на берег волною, — слушая их, Лионель холодел от ужаса и с каким-то отвращением смотрел на коварное море. И снова вопрос, мучительный и страшный, вставал перед ним, — к чему все это? К чему жить, надеяться, любить и трудиться?… Печально звучал в его сердце безотрадный ответ…
Как-то вечером, незадолго до заката, Лионель, но обыкновенно, отправился гулять на берег — погода стояла довольно хмурая, большая часть лодок была уже убрана под навесы — у одного из них стояла толпа матросов, как заметил Лионель. Все они казались в каком-то возбуждении и с ужасом старались заглянуть под навес, у которая собрались. Лионель почти что поравнялся с ними, когда один из них, завидев его, сделал знак, чтобы он не подходил ближе.
— «Что случилось?» с волнением спросил Лионель, — «кто-нибудь утонул?»
— «Нет, нет, маленький барин, ответил старый моряк, «на этот раз не наше море виновато! Но вам-то здесь нечего делать… это какой-то пришлый — вернее всего из туристов, — он взял, да повесился под навесом у старика Давида.»
— «Повесился!» воскликнул, содрогаясь, Лионель, «как же мог он это сделать?»
— «Положим, дело-то не мудреное, — был-бы только шарф, да гвоздь. У него было и то и другое: сделал узел, на потолке вбит гвоздь — вдел туда, — ну, и готово… Когда его сняли, уже не было признаков жизни — напрасно теперь стараются его привести в чувство… Однако, маленький барин, идите-ка лучше домой, — здесь вам не место. Бегите скорее, вот молодец! Кстати, и погода-то свежеет, сегодня прокатить вас по морю не придется.»
Лионель слушал молча, и, молча, следуя совету рыбака, повернул назад, в направлении к деревне; — шел он нетвердою поступью, сердце не ровно билось, пылкое воображение так живо рисовало перед ним страшную картину мертвеца, висевшего под навесом, и, содрогаясь, он невольно остановился и оглянулся: море начинало бушевать. Огромные валы, гонимые ветром с океана, стремительно катились к берегу, настигая и перегоняя друг друга — и белая пена, причудливо извивавшаяся вдоль их грозных гребней, казалась чудовищною сверкающей сетью, закинутой, чтобы ловить и топить жалких, беспомощных людей… И вторично, но с новою силою, безжалостное равнодушие природы ужасом сказалось душе его…