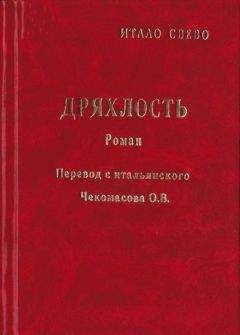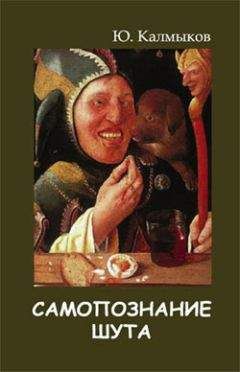Итало Звево - Самопознание Дзено
— Вот увидишь, тебя все равно свяжут!
Я был атакован столь неожиданно, что не сразу сообразил, как защищаться. Меня немного утешало то, что Ада была явно недовольна, услышав собственные впечатления, выраженные в такой форме. Наглость маленькой Анны немного нас сблизила.
Смеясь, я рассказал им, что дома у меня хранится медицинское свидетельство, заверенное всеми необходимыми печатями, которое подтверждает мою полную умственную состоятельность. Так они узнали о шутке, которую я сыграл в свое время с отцом. Я вызвался представить это свидетельство маленькой Аннучче.
Когда я собрался уходить, меня не пустили. Им хотелось, чтобы сначала я позабыл царапины, нанесенные мне другой кошкой. Мне предложили посидеть еще и выпить с ними чашку чая. Я, разумеется, смутно чувствовал, что для того, чтобы понравиться Аде, мне следовало быть немножко не таким, каков я есть. Но я решил, что стать таким, как хочет она, мне будет не очень трудно. Речь зашла о смерти моего отца, и я подумал, что если я расскажу им о горе, которое до сих пор тяжким камнем лежит у меня на сердце, серьезная Ада сумеет разделить его со мной. Но стоило мне сделать над собой усилие и начать под нее подделываться, как я утратил естественность, и это — я тут же это заметил — сразу меня от нее отдалило. Я сказал, что, лишившись отца, я испытал такую боль, что если я сам когда-нибудь буду иметь детей, то постараюсь сделать так, чтобы они поменьше меня любили: зато потом им будет легче перенести мою смерть. Я немного растерялся, когда меня спросили, как, собственно, я собираюсь воспитывать детей, чтобы достичь своей цели? Я буду дурно с ними обращаться? Может быть, бить? Альберта, смеясь, сказала:
— Самое верное было бы просто их убить!
Я видел, что Ада старается вести себя так, чтобы меня не обидеть, а поэтому находится в нерешительности. Но все ее старания ни к чему, кроме этой нерешительности, не приводили. Наконец она сказала, что ей понятны добрые чувства, которыми я руководствуюсь, говоря, что хотел бы так воспитывать детей, но ей кажется неправильным превращать жизнь лишь в подготовку к смерти. Но я стоял на своем и заявил даже, что именно смерть организует нашу жизнь. Я вот постоянно думаю о смерти, а потому знаю лишь одно страдание — страдание, которое причиняет мне мысль о неизбежности смерти. И рядом с этой мыслью все прочее становится таким незначительным, что я удостаиваю его лишь улыбки или веселого смеха. Присутствие Ады, уже успевшей занять в моей жизни весьма значительное место, заставляло меня говорить то, чего я вовсе не думал. Так, всю вышеприведенную тираду я произнес для того, чтобы она подумала, будто я очень веселый и легкий человек. Эта веселость и эта легкость часто мне помогали, когда я имел дело с женщинами.
Подумав и поколебавшись, она призналась, что ей не нравится такое душевное состояние. Умаляя значение жизни, мы делаем ее еще более опасной, чем устроила ее мать-природа. Иными словами, она мне сказала, что я ей не подхожу, но уже то, что этому предшествовали размышления и колебания, казалось мне успехом.
Альберта процитировала какого-то античного философа, у которого была подобная же концепция жизни, а Аугуста сказала, что смех — это прекрасная вещь. Он составляет одно из богатств их отца.
— Поэтому-то он, наверное, и любит выгодные сделки, — смеясь, сказала синьора Мальфенти.
Наконец я решился прервать этот памятный мне визит.
Нет на свете ничего более трудного, чем удачно жениться. Это ясно видно на примере моей истории, в которой решение жениться значительно опередило выбор невесты. Почему бы мне было не постараться узнать побольше девушек, прежде чем выбрать одну? Так нет же, мне словно противно было иметь дело с несколькими, и я не пожелал себя утруждать! Ну хорошо, но уж после того, как выбрал, я мог бы по крайней мере постараться получше ее узнать и убедиться хотя бы в том, что она готова ответить мне взаимностью — как это бывает в романах со счастливым концом? Так нет, выбрав себе девушку с низким голосом и непокорными, однако гладко причесанными волосами, я решил, что раз она так серьезна, она, конечно, не отвергнет человека умного, недурного собой и из хорошей семьи. Уже в первых словах, которыми мы обменялись, я услышал некий диссонанс, но ведь диссонанс — это путь к унисону! Больше того — должен признаться, что я думал примерно так: «Пусть она остается такая, как есть, она мне нравится. Лучше я постараюсь измениться, если она того пожелает». То есть я был довольно-таки скромен: ведь известно, что гораздо легче переделать себя, чем кого-либо другого!
Вскоре дом Мальфенти сделался центром моего существования. Каждый вечер я приходил туда вместе с Джованни, который, с тех пор как ввел меня к себе, сделался со мной гораздо проще и радушнее. И радушие его было столь велико, что я стал просто назойливым. Сначала я делал визиты его дамам один раз в неделю, потом чаще, а кончил тем, что стал ходить туда каждый день и просиживать по несколько часов... У меня всегда находился предлог, чтобы заглянуть в этот дом, и думаю, не ошибусь, если скажу, что порой мне эти предлоги подсказывали. Иногда я приносил с собой скрипку и музицировал с Аугустой, которая единственная в семье умела играть на фортепьяно. Конечно, было плохо, что на фортепьяно играла не Ада, плохо было и то, что сам я играл на скрипке очень плохо, и совсем уж плохо было то, что Аугуста отнюдь не была прекрасной музыкантшей. Из каждой сонаты мне приходилось выбрасывать самый трудный кусок, под предлогом — разумеется, вымышленным! — что я давно не брал в руки скрипку. Любитель-пианист всегда превосходит любителя-скрипача, а у Аугусты к тому же и в самом деле была очень недурная техника, однако я, который играл куда хуже ее, был еще недоволен и думал про себя: «Насколько бы лучше ее я играл, если б умел играть так, как она!» Ну, а в то время как я выносил свои суждения об Аугусте, другие выносили суждения обо мне, и, как я узнал позднее, они были для меня неблагоприятными. Аугуста с удовольствием продолжала бы разыгрывать со мной сонаты и дальше, но я заметил, что на Аду они нагоняют скуку, и несколько раз притворился, будто забыл скрипку дома. После этого Аугуста больше о ней не заговаривала.
К сожалению, я проводил с Адой не только те часы, которые просиживал у них в доме. Вскоре она уже не расставалась со мной в течение всего дня. Я выбрал эту женщину среди всех других, и уже поэтому она была моя, и я всячески приукрашивал ее в своих мечтаниях, чтобы эта награда, дарованная мне жизнью, стала еще прекраснее. Я одаривал ее всеми теми чертами, которых так не хватало мне и о которых я так мечтал, потому что ей предстояло стать не только моей подругой, но и моей второй матерью и вдохновлять меня на активную, мужественную жизнь, исполненную борьбы и побед.
Завладев ею в мечтах, я, прежде чем вернуть ее другим, приукрашивал даже ее внешность. Я в своей жизни немало ухаживал за женщинами, и кое над кем мне и в самом деле удалось одержать победу. Но в мечтах я одерживал победы над всеми. Приукрашивая их в своем воображении, я, разумеется, не изменяю их черты: я поступаю так, как поступает один мой приятель, тончайший художник, который, в то время как пишет портрет красивой женщины, неотрывно думает о какой-нибудь другой красивой вещи — о тонком фарфоре, например. Такой вид мечтаний очень опасен, так как сообщает еще большую власть женщине, о которой мы мечтаем: после этого, даже представ перед нами вживе, она сохраняет в себе что-то от плодов, и цветов, и хрупкого фарфора, в которые мы преображали ее в своих мечтах.
Мне трудно рассказывать историю моего ухаживания за Адой. Потом, позднее я долго старался изгнать из памяти это мое идиотское приключение, за которое мне было так стыдно, что хотелось кричать и громко протестовать: «Нет, не может быть! Неужели тот идиот — это я?» Но если не я, то кто же? Однако от самого протеста мне уже становилось чуточку легче, и я часто прибегал к этому средству. Еще куда бы ни шло, если б я вел себя так лет за десять до того, то есть когда мне было двадцать. Но быть наказанным такой невероятной тупостью только за то, что захотел жениться, — в этом есть какая-то несправедливость. Я, изведавший множество любовных приключений и отличавшийся в этой области предприимчивостью, граничившей с наглостью, вдруг превратился в робкого мальчика, который старается незаметно коснуться рукой своей милой, чтобы потом боготворить эту часть тела, удостоившуюся божественного прикосновения! Самое чистое из всех моих любовных приключений я вспоминаю сейчас как самое грязное; слишком уж оно было не к месту и не ко времени: все равно, как если бы десятилетний мальчик вдруг попросил грудь. Какая гадость!
А как объяснить то, что я так долго колебался, вместо того чтобы просто сказать: «Решай! Подхожу я тебе или нет?» Я приходил в их дом прямо из своих мечтаний, я пересчитывал ступеньки, ведущие во второй этаж, и говорил себе: если цифра будет нечетная, значит, она меня любит, и цифра всегда была нечетная, потому что ступенек было сорок три. Я приходил туда, уже совсем было решившись, но в последний момент заговаривал о другом. Аде еще не представлялся случай выказать мне свое нерасположение, а я молчал. Да я бы и сам на месте Ады прогнал этого тридцатилетнего юнца хорошим пинком в зад!