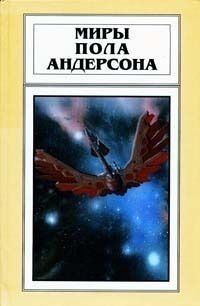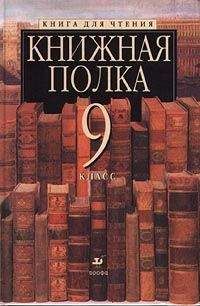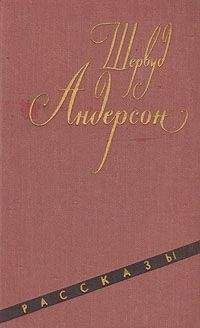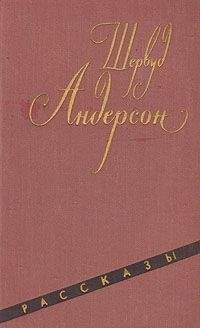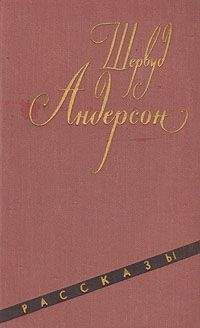Свадьба за свадьбой - Андерсон Шервуд
И вдруг все останавливается. Честное слово. Часы на стене перестают тикать, поезда, что только что мчались вдаль, замирают в бездвижности, люди на улицах, которые начали было говорить друг другу слова, так и стоят с открытыми ртами, и над морем успокаивается ветер.
Вся жизнь повсюду скована этой минутой тишины, и вот тогда то, что спрятано у тебя глубоко внутри, заявляет о себе во весь голос. Ты делаешь шаг, выходя из великой неподвижности, и заключаешь женщину в объятия. Мгновение — и все живое снова может двигаться и быть, но после этого мгновения жизнь навеки будет окрашена этим твоим движением, этой вашей свадьбой. Ибо для этой свадьбы и были созданы ты и женщина.
Возможно, все это увлекает нас к самым дальним пределам фантазии, как Джон Уэбстер поспешил пояснить Джейн, и все же вот он сидит в спальне на втором этаже, вместе со своей дочерью, так близко к своей дочери, которой он раньше вовсе не знал, и пытается рассказать ей о том, что чувствовал тогда, в молодости, когда разыгрывал величайшего в мире наивного олуха.
— В доме было как в могиле, Джейн, — сказал он, и голос его прервался.
Было ясно, что стародавняя мальчишеская мечта в нем по-прежнему жива. Даже теперь, уже достигший зрелости, он ощущал ее слабый, едва уловимый аромат, пока сидел на полу у ног дочери.
— В доме весь день никто не зажигал огня, а на улице становилось все холоднее, — заговорил он снова. — По всему дому расползался эдакий сырой холод, какой всегда нагоняет мысли о смерти. Ты, конечно, помнишь, что я тогда думал, все еще думал о своем поведении в доме друга как о безумии, как о каком-то мороке. Видишь ли, наш дом топился печами, и у меня в комнате, наверху, была своя маленькая печка. Я пошел в кухню — там за печью, в ящике, всегда хранилась щепа для растопки, уже нарезанная, так что я набрал охапку и пошел наверх.
В коридоре, возле самой лестницы, я споткнулся в темноте о ножку кресла, и вся эта охапка высыпалась на сиденье. Я стоял там в темноте, стараясь думать — и не думая. «Я, наверное, заболеваю», — подумал я. У меня не осталось ни капли чувства собственного достоинства — в такие моменты, пожалуй, и вовсе невозможно ни о чем думать.
Над кухонной печкой — когда дом был живой, а не мертвый, как сейчас, перед ней всегда стояла то мама, то наша служанка Адалин — висели маленькие часы, как раз так, чтоб было видно поверх женских голов, и теперь эти часы начали издавать звук столь оглушительный, как если бы кто-то колотил по железному листу гигантским молотком. В соседнем доме кто-то без умолку говорил или, может, читал вслух. Жена Немца, нашего соседа, была больна и несколько месяцев лежала в постели, так что теперь он, может статься, пытался ее развеселить и читал ей какой-нибудь рассказ. Поток слов все лился и лился, но и в нем была прерывистость. Я хочу сказать, что звучал непрерывный короткий наплыв слов, потом иссякал, потом начинал звучать сызнова. Иногда тембр голоса повышался — чтобы выделить какое-то место, конечно, — и это было похоже на всплеск, как бывает, когда волны вдоль берега долго-долго стремятся одной и той же дорогой к кромке, четко видной на мокром песке, а потом вдруг появляется одна волна, мощнее всех прочих, и разбивается о выступ скалы.
Ты, может быть, представляешь, в каком я был состоянии. В доме, как я уже говорил, было очень холодно, и я долго-долго простоял на одном месте, вообще не двигаясь и воображая, что больше никогда в жизни не захочу двигаться. Далекие голоса из соседнего дома, дома Немца, будто бы исходили из какого-то потаенного уголка во мне самом. Один из них все твердил мне, какой я осел, и уверял, что после всего случившегося я больше никогда не смогу высоко нести голову в этом мире, а другой говорил, что никакой я не осел, — но у первого в те времена были на руках все козыри. Вот чем я был занят: стоял там на холоде и пытался устроить, чтобы эти голоса сами друг друга передушили и без меня обошлись, но потом, может, потому что я так ужасно замерз, я заплакал, как дитя, и мне от этого стало так стыдно, что я бросился из дома, позабыв даже надеть пальто.
Ну вот, шляпу я тоже оставил дома и теперь оказался на морозе с непокрытой головой, и, пока я шел, стараясь насколько можно держаться малолюдных улиц, пошел снег.
«Отлично, — сказал я самому себе. — Теперь я знаю, как быть. Я пойду к ним и попрошу ее выйти за меня замуж».
Когда я вернулся туда, матери моего друга нигде не было видно, а молодые люди втроем сидели в гостиной. Я заглянул в окно и, поскольку очень боялся, что растеряю всю храбрость, если позволю себе колебаться, решительно поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Я в любом случае был рад, что они поняли: после случившегося на танцы им ходу нет, — и, когда мой друг открыл дверь, я ничего не сказал, а сразу прошел в комнату, где сидели обе девушки.
Она сидела на диване в углу, свет лампы, что горела на столе посреди комнаты, едва освещал ее, и я подошел прямо к ней. Мой друг двинулся за мной следом, но теперь я повернулся к ним с сестрой и попросил обоих выйти из комнаты. «Здесь нынче вечером что-то произошло, и я не могу толком объяснить что, но нам нужно остаться наедине на несколько минут», — сказал я, показывая рукой в ту сторону, где на диване сидела она.
Когда они вышли, я двинулся к двери и закрыл ее за ними.
И вот я оказался один на один с женщиной, которая позже стала моей женой. Какая-то странная обвислость проступала во всем ее существе, когда она сидела на этом диване. Ее тело точно тем же движением, которое ты видела, соскользнуло с насиженного места на диване, и теперь она скорее лежала, чем сидела. Я имею в виду, тело ее скорее лежало, чем сидело. Оно было похоже на небрежно брошенную одежду. Вот что успело случиться с того момента, когда я вошел в комнату. Мгновение я стоял перед ней, а потом опустился на колени. Лицо ее было очень бледно, но она смотрела мне прямо в глаза.
«Нынче вечером я дважды сделал нечто довольно странное», — сказал я и отвернулся, так что больше уже не смотрел ей в глаза. Я думаю, ее глаза пугали меня и взгляд их сбивал меня с толку. Так оно, конечно, и было. У меня была заготовлена речь, и я хотел довести начатое до конца. Были конкретные слова, которые я собирался произнести, но теперь я знал, что в то же самое время другие слова и мысли, ничего общего с тем, что я говорил, не имеющие, проникали в меня все глубже.
Каким-то образом я знал, что мой друг и его сестра стоят в эту минуту прямо под дверью, преисполнившись ожидания, обратившись в слух.
О чем они думали? Впрочем, какое это имеет значение.
О чем думал я сам? О чем думала женщина, которой я собирался предложить выйти за меня замуж?
Я заявился в дом без шляпы, ты помнишь, и, несомненно, выглядел довольно дико. Быть может, все в доме думали, будто я внезапно, разом помешался, а может быть, так оно и было.
Я-то сам во всяком случае был очень спокоен, в тот вечер и все эти годы; до тех пор пока совсем недавно я не влюбился в Натали, я неизменно был очень спокойным человеком или, по крайней мере, мне так казалось. Так вот я разыгрывал на сцене себя самого, такой я из себя делал спектакль. Мне думается, смерть — всегда проявление спокойствия, так что в тот вечер я, должно быть, в некотором роде совершал самоубийство.
За несколько недель до этих событий в городе разразился скандал, дошло даже до суда, и об этом с осторожностью писали в нашем еженедельнике. Слушалось дело об изнасиловании. Фермер, нанявший к себе в дом молодую девицу, услал жену в город за продуктами и, покуда ее не было, затащил девушку на верхний этаж и изнасиловал; он сорвал с нее одежду и даже избил, прежде чем заставил уступить своей похоти. Потом его арестовали и привезли в город, и в ту самую минуту, когда я стоял на коленях перед телом своей будущей жены, он сидел в тюрьме.
Я заговорил об этом, потому что вспомнил, что тогда, стоя на коленях, я вдруг подумал: ведь есть связь между тем человеком и мной. «Я тоже совершаю насилие», — подсказывало мне что-то внутри.