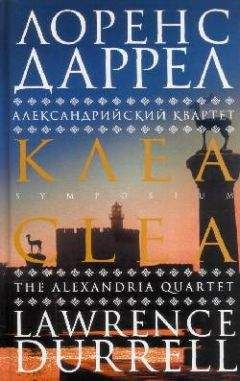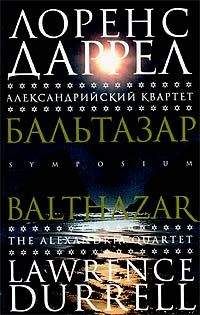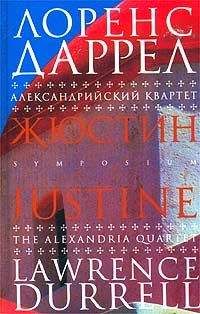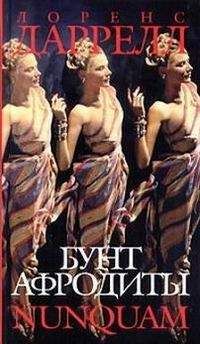Лоренс Даррел - Маунтолив
«Его» кабинет — кабинет, которого отец в глаза не видел. Отцово дезертирство всегда висело между ними, как прочнейшая из связующих нитей, из тех, что поминают редко, но помнят постоянно — незримый вес отъединенного его существования, вдали от них двоих, на другом конце света: в счастье ли, в несчастье, кто знает? «Для тех, стоящих на краю вселенной, не востребованных Богом, ни единым из богов, единственная истина звучит: сама работа есть Любовь». Странная отцова фраза в академическом предисловии к тексту на пали. Маунтолив взвесил на ладони, повертел в руках тяжелый том в зеленом переплете, обдумывая смысл слов и примеряя их к собственным воспоминаниям об отце: смуглый худой человек, худой, как изголодавшаяся чайка; на голове нелепый пробковый шлем. Сейчас, скорей всего, он носит платье индийского факира! Как полагается реагировать в подобных случаях — улыбкой? Отца он не видел с тех пор, как уехал из Индии, с одиннадцати лет; и отец стал кем-то вроде приговоренного in absentia [25] за преступление… которого и не сформулируешь толком. Тихое бегство в мир восточной мудрости, коему сердцем своим он и так принадлежал давно, долгие годы. Необъяснимо и странно.
Маунтолив-старший был плоть от плоти Индии уже ушедшей, старый служака из почти поголовно вымершей команды чиновников, сама беззаветная преданность которых общему бремени сделала из них своего рода касту, но касту, где товарищем по оружию, попавшим в плен к буддийской мудрости, гордились больше, нежели попавшими в плен к наградному листу. Сухая, безличная преданность делу как раз и вела обыкновенно к страстной самоидентификации с предметом, так сказать, заботы — с пространным этим субконтинентом, со всеми племенами его и кастами, с его дворцами, и верами, и руинами дворцов и вер. Поначалу обычный судейский чиновник, буквально за несколько лет он превратился в непревзойденного специалиста по индийской философии, издателя и комментатора редчайших, не изученных доселе текстов. Маунтолив-младший, на пару с матерью, уютно обустроился в Англии в ожидании скорой отставки отца и мужа и, следовательно, счастливого воссоединения; к славной сей дате готовился и дом, обставленный трофеями — его трофеями, его картинами и книгами, катализаторами грядущих саг о долгих годах безупречной службы. И если дом теперь и смахивал отчасти на музей, то исключительно из-за отсутствия протагониста, решившего остаться в Индии, чтобы закончить свои исследования, которым (они оба давно уже это поняли) закончиться суждено лишь посмертно. Что ж, не такой редкий случай в рядах этой расформированной и списанной на берег команды. Но случилось все не вдруг. Он думал долго, не один год, прежде чем пришел к окончательному решению, а потому письмо, в котором он решение это изложил, имело вид документа, проработанного до последней буквы. Фактически то было последнее полученное ими от него письмо. Хотя время от времени случалась оказия и какой-нибудь совершенно посторонний человек, заехавший мимоходом в буддийский монастырь неподалеку от Мадраса, избранный отцом в качестве постоянного места жительства, привозил от него весточку и маленькие знаки внимания. И конечно же, книги, сами по себе, прибывали пунктуальнейшим образом, в роскошных переплетах, с помпезными шапками университетских издательств. Книги были в некотором роде и алиби его, и апологией.
Мать Дэвида решение это приняла со всем возможным уважением и вот уже много лет едва о муже упоминала. Только лишь изредка незримый режиссер их общего сюжета возникал на заснеженном этом острове вот так, в упоминании о «его» кабинете, или в другой подобной же ремарке, которая, оставшись без комментария, испарялась обратно в таинственную (для них) область неизвестных величин, неучтенных факторов. Маунтолив так и не смог никогда разглядеть сквозь зеркальную поверхность чувства собственного достоинства даже намека на истинное положение вещей — насколько же глубоко задело мать отцово дезертирство. Однако между ними, при малейшем намеке на нежелательную тему, возникало острое, едва ли не страстное чувство неловкости, ибо каждый почитал другого обиженным.
Прежде чем переодеться к обеду в тот вечер, Маунтолив прошел в сплошь заставленный книгами кабинет, служивший заодно и оружейной, и вступил в формальное владение «отцовым» столом — процедура, которую он неизменно повторял в каждый свой приезд. Он аккуратно разложил по ящикам и запер свои папки и рассортировал корреспонденцию. Среди открыток и писем оказался пухлый конверт с кипрской маркой, адрес надписан был, вне всякого сомнения, рукою Персуордена. По толщине конверта судя, там должна была быть некая рукопись, и он, недоумевая отчасти, пальцами сломал сургучную печать.
Мой дорогой Дэвид, — гласила первая страница. — Не сомневаюсь, что удивлю тебя посланием столь объемным. Но слухи о твоем назначении дошли до меня буквально только что, и именно в виде слухов; есть целый ряд вещей, касающихся здешних обстоятельств, о которых я хотел бы сообщить тебе, не прибегая к официальным каналам и канальям (хм!) и к обращениям типа «Господин назначенный в должность посла».
Будет, подумал Маунтолив со вздохом, будет еще время переработать всю эту кипу; он отпер еще раз ящик стола и положил письмо среди прочих бумаг. Он посидел за столом еще немного в полной тишине, убаюканный пряным запахом чужих воспоминаний, живущих в этой комнате, во всем этом bric-а-brac [26]: буддийские мандалы из какой-нибудь бирманской обители, лепчийские флаги, иллюстрации к первоизданию «Книги джунглей» в простеньких рамках, коллекция бабочек, всяческая мелочь, пожертвованная по обету в забытый какой-нибудь храм. На полках редкие книги, брошюры: допотопный Киплинг в изданиях Тэккера и Спинка, Калькутта, «родные» издания Эдварда Томпсона, Янгхазбанд, Мэллоуз, Дарби… Когда-нибудь какой-нибудь музей будет счастлив… И каталожные номера хранения вернут предметам этим утраченную было анонимность.
Он подобрал с конторки старый тибетский молитвенный барабан и крутанул его раз или два, вслушиваясь в тихий шепоток — по кругу — резной, из дерева коробочки, набитой до сих пор пожелтевшими полосками бумаги, на которых верующие вывели давным-давно, многократно, классическую фразу: Ом Мани Падме Хум. Случайный подарок, прямо перед отъездом. Когда до отплытия судна оставалось всего несколько часов, он упросил отца купить ему целлулоидный аэроплан, и они вдвоем буквально прочесали весь базар, однако же игрушки так и не нашли. И тогда отец остановился у первого попавшегося лотка, купил у торговца молитвенный барабан и сунул его Дэвиду в руки в качестве замены. Было уже поздно. Пришлось спешить. И прощание вышло какое-то скомканное.
А потом — что потом? Грязно-желтое речное устье под ошалевшим солнцем, радужная пленка полуденного марева скрадывает очертания лиц, дым от горящих причалов, мертвые тела людей, распухшие, синие, плывут по течению вниз… Дальше, еще дальше, память его дорожку забыла. Он отложил тяжелый барабан в сторону и вздохнул. Дрогнуло оконное стекло под порывом ветра, плеснула следом горсть снежной пыли, словно бы напоминая, где он, что он. Он вынул из ящика сборники упражнений по арабскому и толстый словарь. Им теперь судьба на несколько месяцев поселиться у его изголовья.
Ночью, как и следовало ожидать, его посетил домашний злой дух, принявший вид недуга, пунктуально сопровождавшего каждый его приезд домой, — сокрушительной боли в ушах, буквально в несколько минут низводившей его до собственной тени, скорчившейся, сжавши голову руками, в дальнем уголке кровати. Это была своего рода загадка, ибо ни один врач не смог до сих пор не то что излечить, но поставить хотя бы мало-мальски внятный диагноз касательно мучительных ночных приступов. Нигде, кроме как дома, он ничем подобным не страдал. Как обычно, мать услышала его стоны и поняла из прежнего опыта, что они означают, она материализовалась из темноты у постели страдальца и принесла с собой невыразимо сладостную негу забытых слов и ласк и свое обычное лекарство, помогавшее в подобных случаях безотказно. Оно теперь всегда стояло у нее под рукой, в буфете, рядом с кроватью. Салатное масло, нагретое в чайной ложечке на пламени свечи. Он почувствовал, как скользнула теплая капелька масла куда-то глубоко и набальзамировала мозг, а голос матери из темноты ласкал его и обещал покой. Понемногу тяжелые волны боли утихли, вымыв его, так сказать, на плоский берег сна — сна, пробираемого приятной легкой дрожью воспоминаний о детских болезнях: и эту ношу мать разделяла с ним — они даже и заболевали одновременно, словно из сочувствия друг к другу. Неужели и впрямь когда-то они могли лежать в соседних комнатах, переговариваться через открытую настежь дверь, читать друг другу, делить на двоих роскошь совместного выздоровления? Он уже и не помнил наверняка.