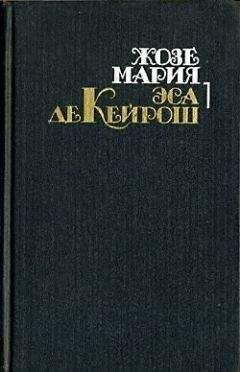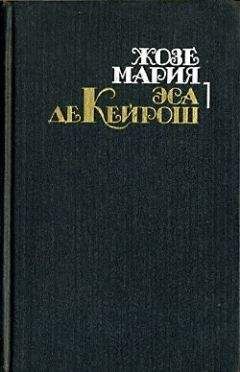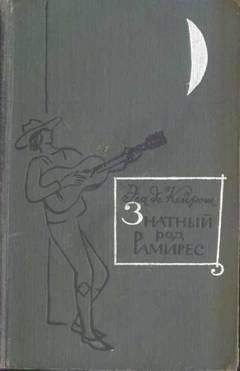Жозе Эса де Кейрош - Новеллы
Это время славы было недолгим, но его было достаточно для того, чтобы привлечь к нему внимание; его речи, яркие, поэтичные, искусно разукрашенные блестящими образами, покорили Афины; по его словам, он мог заставить цвести самые бесплодные земли; из какой-нибудь дискуссии о налогах или о путях сообщения рождались у него эклоги Феокрита. В Афинах талант такого рода приводит к власти: Коррискосо назначили на высокий государственный административный пост, однако министерство, а вместе с ним и большинство тех, для кого Коррискосо был любимым тенором, пало и, независимо от конституционной логики, исчезло в одном из тех внезапных политических крушений, столь обычных в Греции, когда правительства рушатся, как дома в Афинах, — без причины. Отсутствие фундамента, ветхость вещей и индивидуальностей… А если разваливается фундамент, все превращается в прах…
Снова лакуна, снова темный омут в истории Коррискосо…
Он всплывает на поверхность, он — член республиканского клуба в Афинах, в одной из газет он требует, чтобы Польше предоставили независимость и чтобы Грецией управлял конгресс гениев. Тут же он публикует свои «Вздохи Фракии». Новая сердечная склонность… И наконец, — об этом он сказал мне не объясняя причины — он вынужден искать убежища в Англии. В Лондоне он перепробовал разные должности и в конце концов устроился в Чаринг-Кросском ресторане.
— Это тихая пристань, — сказал я, пожимая ему руку.
Он горько улыбнулся. Это, конечно, тихая и к тому же удобная пристань. Его сытно кормят, он получает приличные чаевые, у него старый пружинный матрас, но его нежной душе ежеминутно наносятся мучительные раны…
Печальные дни, дни крестных мук — это дни, когда наш поэт-лирик вынужден разносить по залу котлеты и кружки с пивом благополучным, прожорливым буржуа! Но независимое положение удручает его; его душа грека не так уж жаждет свободы; для него достаточно, чтобы хозяин был вежлив. И, как он сказал мне, ему приятно признать, что завсегдатаи Чаринг-Кросса никогда не попросят у него горчицы или сыру, не сказав ему: «If you please»[17], а уходя и проходя мимо него, прикладывают два пальца к полям шляпы: это удовлетворяет самолюбие Коррискосо.
Но мучением было для него то, что он постоянно имел дело с едой. Если бы еще он был счетоводом у банкира, главным приказчиком в магазине шелковых тканей!.. На миллионных оборотах, на торговом флоте, на грубой силе золота или же на разных тканях, на том, чтобы заставить побежать на свету муаровые волны, на том, чтобы придать бархату мягкость линий и складок, — на всем этом лежит тень поэзии… Но как можно развивать вкус, артистическую индивидуальность, чувство цвета, эффекта, чувство драматического — в ресторане, нарезая ростбиф или Йоркский окорок?! И к тому же, как он говорил, подавать еду, разносить блюда — значит служить только брюху, потрохам, низменной материальной потребности: в ресторане бог — это желудок, душа же пребывает снаружи вместе со шляпой, повешенной на вешалке, или со свернутым в трубку журналом, оставшимся в кармане пальто.
А его окружение, а отсутствие собеседников! К нему обращаются только затем, чтобы попросить у него колбасы или нантских сардинок! Он открывает рот, в который смотрел афинский парламент, только затем, чтобы спросить: «Еще хлеба? Еще порцию бифштекса?» Его удручает, что у него нет никакой возможности блистать своим красноречием.
Кроме того, служба мешает ему работать. Коррискосо слагает стихи в уме: четыре прогулки взад-вперед по комнате, резкий взмах головой — и полнозвучная, сладостная ода готова… Но перерыв, вызванный голосом какого-нибудь прожорливого завсегдатая, требующего, чтобы его накормили, становится роковым для этой творческой манеры. Порой, опершись на подоконник, с салфеткой в руке, Коррискосо сочиняет элегию; вся она — лунный свет, белые платья бледных дев, лазурные просторы, цветы скорбной души… Он счастлив, он вознесся на небеса поэзии, на голубоватые равнины, где царят мечты, перепархивающие со звезды на звезду… И вдруг из какого-нибудь угла орет грубый голодный голос:
— Бифштекс с картофелем!
Ах! Крылатая фантазия улетает прочь, словно испуганная голубка. И тогда несчастный Коррискосо, низвергнутый с высот мысли, сгорбившись, идет с болтающимися полами фрака и спрашивает, слабо улыбаясь:
— Прожаренный или с кровью?
О, горестная судьбина!
— Но почему же, — спросил я его, — вы не бросите этот вертеп, этот храм желудка?
Он опустил свою красивую голову поэта. И поведал мне о том, что его удерживает, поведал мне об этом, чуть не плача у меня на груди; узел его белого галстука оказался у пего сзади: Коррискосо влюблен.
Он влюблен в некую Фанни, прислугу, выполняющую в Чаринг-Кроссе всякую работу. Он полюбил ее в первый же день, когда вошел в гостиницу; он полюбил ее в то мгновение, когда увидел, как она моет каменную лестницу, когда увидел ее полные голые руки и ее белокурые волосы, роковые белокурые волосы — такие волосы сводят с ума южан — пышные, с медным отливом, с отливом матово-золотистым, заплетенные в косу, как у богини. И потом — цвет кожи, цвет кожи англичанки из Йоркшира — кровь с молоком…
Вот отчего страдает Коррискосо! Вся его скорбь изливается в одах, которые он переписывает набело по воскресеньям, по выходным дням и в праздник Тела Христова! Он прочитал мне их. И я увидел, как может страсть потрясти нервное существо: какая жестокость в выражениях, какой взрыв отчаяния, какие вопли истерзанной души, пронзающие отсюда, с верхнего этажа Чаринг-Кросса, молчание холодного неба! Дело в том, что Коррискосо ревнует. Несчастная Фанни равнодушна к этому поэту, к этому нежному, к этому чувствительному романтику: она влюблена в полисмена. Она влюблена в полисмена, в этакого Алкида, в этакую гору мяса, ощетинившуюся лесом бороды; грудь у него — как борт броненосца, а ноги — как нормандские крепости. Этот Полифем, как называет его Коррискосо, обычно дежурит на Стрэнде, и бедняжка Фанни проводит день в ожидании у окошка на верхнем этаже гостиницы.
Все свои сбережения она тратит на джин, на бренди, на можжевеловую водку и вечером приносит ему кувшинчики под передником; она удерживает его при себе с помощью спиртных напитков; это чудовище, эта громада, воздвигнутая на углу, молча берет кувшин, одним махом опрокидывает его в темную глотку, глухо рыгает, проводит волосатой ручищей по своей бороде Геркулеса и молча идет дальше, гулко топая по вымощенной плитами мостовой своими широченными подошвами, не сказав: «Спасибо», не сказав: «Люблю тебя». И быть может, в эту самую минуту, в другом углу, худощавый Коррискосо, напоминающий в тумане тонкие очертания телеграфного столба, рыдает, закрыв худое лицо прозрачными руками.
Бедный Коррискосо! Если бы он мог хоть растрогать ее!.. Но где там! Это тело унылого чахоточного вызывает у нее презрение, а его душа ей непонятна… Не то чтобы Фанни были недоступны пылкие чувства, выраженные на языке поэзии. Но Коррискосо может писать свои элегии только на родном языке… А Фанни по-гречески не понимает… А Коррискосо велик только на греческом…
Я спустился в свою комнату, оставив его рыдающим на койке. Я и теперь вижу его, когда приезжаю в Лондон. Он еще больше похудел, вид у него еще более роковой, он еще больше высох от ревности и еще больше горбится, передвигаясь по ресторану с блюдом ростбифа; он еще более восторжен и лиричен… Когда он обслуживает меня, я всегда даю ему шиллинг на чай, а потом, уходя, сердечно пожимаю ему руку.
НА МЕЛЬНИЦЕ[18]
Дону Марию да Пьедаде весь городок считал идеалом женщины. Всякий раз, как речь заходила о ней, старик Нунес, директор почтамта, говорил, важно поглаживая четыре волоска на своей лысине:
— Она святая! Вот она кто!
Городок чуть ли не гордился ее хрупкой, трогательной красотой; это была блондинка с тонким профилем, кожей цвета слоновой кости и темными фиалковыми глазами, чей печальный и нежный блеск затеняли длинные ресницы. Жила она на окраине, в голубом домике с тремя балконами, и те, кто по вечерам ходил на прогулку до мельницы, всякий раз вновь пленялись ею, видя ее у окна, между муслиновыми занавесками, склонившуюся над шитьем, одетую в черное, сосредоточенную и серьезную. Выходила она редко. Ее муж был гораздо старше, инвалид, беспомощный из-за болезни позвоночника и всегда лежавший в постели; он не выходил на улицу уже несколько лет; порой видели у окна и его — высохшего, хромого, закутанного в robe-de-chambre[19], он был бледен, за бородой он не следил; шелковый колпак уныло сползал на шею. Их дети — две девочки и мальчик — тоже были больными, росли медленно и плохо, вечно у них гноились уши, вечно они куксились и хныкали. В доме царила гнетущая атмосфера. Там всегда ходили на цыпочках, ибо малейший шум раздражал главу семьи, у которого бессонница вызывала нервное возбуждение; на комодах стоял целый арсенал лекарств, миска с льняным маслом; цветы, которыми Мария да Пьедаде по своей опрятности и любви к свежести украшала столы, быстро увядали в этом удушливом, спертом воздухе, никогда не освежавшемся из боязни сквозняков; грустно было постоянно видеть малышей больными: то один ходил с пластырем на ухе, то другой, завернутый в одеяло больничного желтого цвета, лежал в углу дивана.