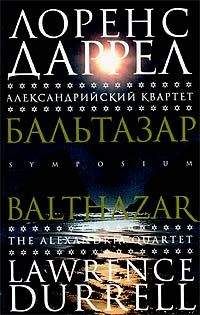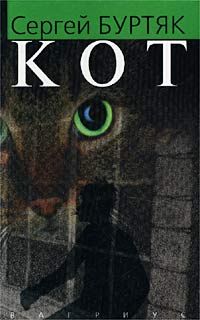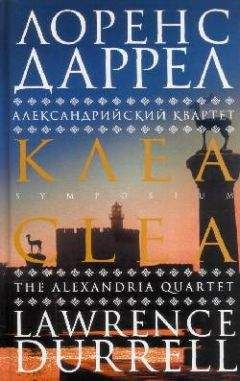Лоренс Даррел - Жюстин
Пять часов. Хожу по ее комнате, сосредоточенно изучая неодушевленные предметы. Пустые коробочки из-под пудры. Средство для удаления волос, сделано в Сардах. Запах сатина и кожи. Кошмарное чувство, словно надвигается грандиозный скандал…
Я пишу эти строки совсем в иной обстановке, и много месяцев пролетело с той ночи; здесь, под оливой, в мелком озерце света от масляной лампы, я пишу и переживаю заново ту ночь, которая уже успела занять свое скромное место в бездонных хранилищах памяти Города. Где-то здесь же, поодаль, сидит в огромном, занавешенном коричнево-желтыми гардинами кабинете Жюстин и переписывает в дневник страшные афоризмы Гераклита. Сейчас эта тетрадь передо мной. На одной из страниц она написала: «Трудно противостоять желаниям сердца: если оно чего-то очень захочет, то купит все равно и заплатит душой». И ниже, в скобках: «Сомнамбулы, маги, бакши, ленаи и посвященные…»
* * *Не в это ли самое время Мнемджян встревожил меня, прошептав мне в самое ухо: «Коэн умирает, вы знаете?» Старого меховщика не было видно уже несколько месяцев. Мелиссе кто-то сказал, что он в больнице и что у него уремия. Но изменилась орбита, которую мы с ним привычно описывали вокруг этой женщины, — поворот калейдоскопа, и вот он утонул, ушел из поля зрения, как выпадает из узора кусочек цветного стекла. Итак, теперь он умирает. Я ничего не сказал в ответ, я просто сидел и перебирал про себя все наши встречи на углах и в барах — уже, стало быть, успевшие стать прошлым. Молчание затянулось; Мнемджян аккуратно подправил мне бритвой височки и принялся работать пульверизатором. Потом осторожно вздохнул и продолжил: «Он все время зовет вашу Мелиссу. День зовет, ночь зовет».
«Я ей передам», — сказал я. Маленький агент памяти кивнул, и в глазах его зашевелились пушистые облачка соучастия. «Это ужасное заболевание, — сказал он еле слышно, — от него так пахнет. Они скребут ему язык лопаточкой. Фуй!» И он направил пульверизатор вверх, в потолок, словно для того, чтобы продезинфицировать память, словно запах мочи проник и в его парикмахерскую.
Мелисса лежала на диване в халате, отвернувшись к стене. Я было подумал, что она спит, но стоило мне войти, она повернулась и села. Я пересказал ей Мнемджянову новость. «Я знаю, — сказала она. — Они прислали мне из госпиталя записку. А я что могу поделать? Я не хочу туда идти, не хочу его видеть. Он ничего не значит для меня, не значил и значить не будет». Я сел и еще раз воскресил в памяти ручного тюленя, грустно глазеющего в стакан. Мелисса, мне думается, приняла мое молчание за упрек — она подошла и осторожно положила руки мне на плечи: я очнулся. «Но он же умирает», — сказал я — для себя самого, пожалуй, не в меньшей степени, чем для нее. Она вдруг словно сломалась, упав на пол и уронив голову ко мне на колени. «Господи, как муторно от всего этого! Ну пожалуйста, не заставляй меня туда идти!»
«Нет, конечно».
«Нет, если ты считаешь, что так нужно, я пойду».
Я снова промолчал. В каком-то смысле Коэн был уже мертв и похоронен. Он утерял свое место в нашей истории, и тратить на него эмоции, какую-то энергию дальше было, наверное, бессмысленно. Все это уже не имело никакого отношения к еще живому человеку, который лежал в больничной палате с чисто выбеленными стенами среди самостийно тасующихся частей своего собственного старого тела. Потому что отныне он стал для нас просто персонажем из древней истории. И все же он был здесь, он упрямо настаивал на своем праве быть, он снова пытался войти в наши жизни, в иной точке орбиты. Что могла Мелисса дать ему теперь? В чем она могла ему отказать?
«Хочешь, я схожу?» — спросил я. Внезапно меня посетила безумная мысль, что в смерти Коэна, я смогу провидеть судьбу моей собственной любви — и ее смерть. То, что некто in extremis, взывающий к помощи любимого когда-то человека, может получить в ответ всего лишь пару раздраженных междометий, напугало меня. Что-либо изменить было уже невозможно, эта женщина принадлежала мне, и старик утратил право на ее сострадание, даже просто на интерес к своей судьбе — она вступила в сезон иных горестей, на их фоне блекли и терялись старые. Пройдет еще немного времени — и что, если она позовет меня или мне понадобится ее участие? Отвернемся ли и мы друг от друга с таким же восклицанием, за которым лишь отвращение и пустота? Любовь, любая любовь предстала предо мной в истинном своем обличье: тот абсолют, что отнимает все и ничего не гарантирует взамен. Все прочие чувства: сострадание, нежность и так далее — существуют только на периферии и проходят по ведомствам привычки и общественных отношений. Но сама она — суровая и безжалостная Афродита — язычница. Не разум наш, не инстинкты, не это ей нужно — но самое наше нутро. Страшно подумать, этот старик даже у края могилы не может утешить себя хотя бы минутным теплом от воспоминания о чем-то, что он когда-то сказал или сделал; и в этой малой толике тепла ему отказала женщина, самая преданная и милосердная из смертных.
Быть забытым вот так — все равно что умереть смертью пса. «Я пойду и навещу его вместо тебя», — сказал я, хотя подобная перспектива отнюдь меня не радовала; но Мелисса уже спала, разметав свои темные волосы по моим коленям. Всякий раз, когда ей приходилось тяжко, она находила убежище в бесхитростном мире сна, ускользая в небытие так же просто и естественно, как лань или ребенок. Я осторожно раздвинул полы выцветшего кимоно и стал тихо поглаживать ее маленькие груди, ее проглядывающие сквозь кожу ребра. Она встрепенулась в полусне и все бормотала что-то невнятное, пока я бережно поднял ее на руки и перенес обратно на диван. Я долго смотрел на нее спящую.
Уже стемнело, и Город тихо дрейфовал к ярким огням кафе на центральных улицах, словно плавучий остров, подушка из водорослей. Я пошел к Паструди, заказал двойное виски и выпил его медленно и вдумчиво. Затем взял такси и поехал в госпиталь.
Я шел за дежурной сестрой по длинным безликим коридорам, стены которых, выкрашенные зеленой масляной краской, дышали липкой влагой. Из-под потолка за нами следили застывшие, неестественно белые лампы, похожие на распухших светляков.
Его поместили в крохотную палату с одной-единственной койкой под балдахином; как мне позже сказал Мнемджян, эта палата была зарезервирована для безнадежных больных, которым оставалось жить буквально считанные дни. Поначалу он меня не заметил, ибо лицо его выразило лишь неприязнь и усталость, когда сестра принялась взбивать ему подушки. Я был поражен спокойной, обдуманной уверенностью, написанной на этом лице, исхудавшем почти до неузнаваемости. Плоть иссохла, кожа туго облепила скулы, обнажив до самого основания длинный, с легкой горбинкой нос, сделав заметнее изящный вырез ноздрей. Рот и нижняя челюсть вернули себе энергические очертания, характерные, должно быть, для его лица в ранней молодости. Горячка оставила под глазами синяки, а подбородок и горло заросли густой черной щетиной, но сквозь все эти тени просвечивали линии его нового лица, чистые, как у тридцатилетнего мужчины. Те образы, которые я долго носил в своей памяти — потный дикобраз, дрессированный тюлень, — немедленно улетучились, и на смену им пришло новое лицо, новый человек, похожий на одного из зверей Апокалипсиса. Нескончаемую минуту простоял я поодаль, наблюдая за ним, за незнакомцем, принимавшим хлопоты сестры с сонной царственной усталостью. Дежурная сестра прошептала мне на ухо: «Хорошо, что вы пришли. Никто к нему не ходит. Он бредит иногда. Потом приходит в себя и зовет людей. Вы родственник?»
«Деловой знакомый», — сказал я.
«Ему на пользу пойдет, если увидит кого знакомого».
Интересно, узнает ли он меня, подумал я. Если я изменился хоть вполовину против него, можно считать, что мы никогда и не встречались. Теперь он откинулся на подушку, и дыхание со свистом вырывалось из длинного лисьего носа, возвышавшегося посреди его лица со спокойным достоинством, подобно гордой деревянной фигуре на носу покинутого командой корабля. Наши перешептывания встревожили его — он обратил в мою сторону слегка неуверенный, но вполне ясный и осмысленный взгляд, взгляд хищной птицы. Он меня не узнал, пока я не качнулся вперед и не сделал несколько шагов по направлению к постели. И тут в одно мгновение глаза его брызнули светом — причудливая смесь унижения, задетой гордости и простодушного страха. Он отвернулся к стене. Я выпалил все, что имел сказать, единым духом. Мелиссы в городе нет, но я телеграфировал ей, чтобы приезжала как можно скорее; а пока пришел узнать, не смогу ли я сам быть хоть чем-то полезен. Его плечи вздрогнули, и мне показалось, что сейчас с его губ сорвется невольный стон; но вместо стона я услышал в конце концов смешок, резкий, бездумный и немузыкальный. Словно в ответ на скелет старой шутки, такой избитой и надоевшей, что и не могла она вызвать ничего, кроме брезгливого полудвижения уголков этого мертвенного рта в туго натянутой коже щек.