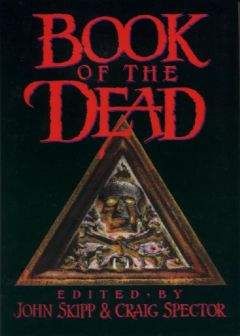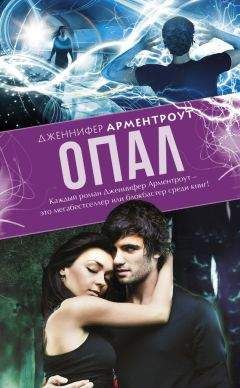Эрве Базен - И огонь пожирает огонь
— Да-да! — еле слышно сказал Мануэль.
Страдал он невыносимо и, крепко стиснув одной рукой плечи Марии, а другой прижимая к себе ее голову, пытался что-то придумать, чтобы не сразу отвергать предложение, приняв которое он избавил бы от себя хозяев дома.
— Я знаю, скольким я вам обязан, — наконец произнес он, — но, честное слово, даже чтобы отблагодарить вас, даже чтобы спасти ее…
— Решайте так, как подсказывает вам совесть, — сказал Оливье; и он, и жена словно застыли как две статуи. — Но, чтобы быть до конца откровенным, должен сообщить вам следующее: хунта считает, что вы скрываетесь в посольстве, и она сделала нам совершенно невероятное предложение: «Отдайте сенатора, и мы выпустим всех остальных, кто прячется у вас». Естественно, мы отказались.
— Для меня такой вариант был бы почетнее, — пробормотал Мануэль, — хотя, клянусь, у меня нет никакого желания заниматься сейчас фанфаронством.
Губы Марии зашевелились, но ни звука не слетело с них.
— Утопить в крови целый народ и спасти одного человека, — продолжал Мануэль, — вот уж верх лицемерия! Спасибо вам, Оливье, за желание помочь, но я не могу принимать участие в рекламном трюке. Что обо мне подумают?
Четыре взгляда сплелись, вступив в борьбу; первой не выдержала Сельма.
— Да не мучай ты их. Скажи же наконец…
— Да, — сказал Оливье, — есть еще один выход, но значительно более рискованный: найти проводника. Нам говорили, что есть место, где можно перейти границу. И многие из ваших уже этим воспользовались. Но неизвестно, добрались ли они до безопасного места. Вас, если узнают, могут выдать, так как вы очень дорого стоите; кроме того, для перехода границы нужна сумма, которую мы не в состоянии вам ссудить, а деньги нужны срочно.
— Разумеется, я предпочитаю проводника, — с деланной непринужденностью сказал Мануэль. — Но должен признаться, того, что у меня есть при себе, может хватить лишь на сигареты, а пойти в банк и взять деньги я, естественно, не могу.
Он выпустил Марию из объятий и подошел к окну; занавески по неосторожности оставались раздвинутыми; он дернул за шнурок, обернулся, развел руками, и они безвольно повисли вдоль тела.
— Позвольте мне дождаться здесь вашего отъезда. А там — попрошу убежища у нашего друга Прелато.
— Нет! — воскликнула Мария, сбрасывая оцепенение. — У нас есть еще одна возможность. Завтра четверг; в девять утра я пойду в город.
XVI
Оливье предложил отвезти Марию в своем «ситроене», чтобы избежать слежки. Город словно спал, зажатый тисками образцового порядка. На перекрестках все скрупулезно подчинялись сигналам светофора. Они проехали мимо церкви, куда направлялась группа детишек — по трое в ряд, — и падре, который нес сбоку дозор, пересчитывал, задрав палец кверху, свою армию; дети взбирались по ступенькам в аккуратных башмачках, начищенных матерями, для которых слово божие — закон.
— Вот здесь венчалась моя сестра, — сказала Мария.
Чуть дальше она опустила стекло и бросила на асфальт розу, которую сорвала в саду Легарно, — ее тут же раздавил ехавший позади них «фольксваген».
— А тут танк…
«Ситроен» не сбавил скорости, и Мария покраснела от досады: на расстоянии в пятьдесят метров ведь точно не определишь то самое место. По тротуару, где в то утро зигзагом проехал бронеавтомобиль, медленно бредет толпа, не глядя на расставленных всюду солдат, которые с равнодушным видом поводят из стороны в сторону дулами автоматов.
— Пятая улица направо, третья налево и четвертая опять направо, — сдавленно произносит Мария.
Разве она может быть спокойной? Ведь это для нее и безрассудно смелое возвращение к нормальной жизни, и что-то вроде освобождения из-под стражи. О ее отношениях с Мануэлем никто не знал, кроме членов ее семьи, которых уже нет в живых; ее исчезновение может удивлять лишь начальника на работе; единственная сложность этой поездки по городу заключается для нее в том, что она не положила в вечернюю сумочку бумаг, удостоверяющих ее личность, а теперь на любом углу их могут у нее спросить… Все это она не раз повторяла самой себе, Мануэлю и Легарно — и никого ни в чем не убедила. Злой воле случая часто помогает злая воля людей.
— Я вполне понимаю сенатора, — внезапно прерывает молчание Оливье. — Но согласитесь: он нам осложняет все дело.
От самого дома Оливье молча вел машину. Разумеется, он все понимает. Но настроен, наверное, так же, как Сельма, которая накануне вечером высказала все Мануэлю, пытаясь поколебать его решение. Когда «новая служанка» уложила Вика (чрезвычайно довольного ею), когда разговор возобновился, Оливье ни разу не прервал жену. Конечно, полиция может знать больше, чем они предполагают, может схватить Марию дома и устроить ей мучительный допрос. Кто может за себя поручиться, что будет молчать, когда под ногти тебе медленно загоняют десяток спичек? Сельма не решилась добавить, что идти на риск из гордости — право каждого, но лишь в том случае, если ты не подвергаешь риску других. И когда Мануэль внезапно во время комендантского часа исчез — Мария едва успела перехватить его на улице, — стало ясно, что он все понимает; ей никогда не забыть его искаженного стыдом и нежностью лица.
— Ну и тип! — бормочет Оливье. — Он хоть сказал вам, куда направляется?
— Нет, — отвечает Мария, — но нетрудно догадаться. Он раза три повторил: «Если кто и должен покинуть этот дом, то это я».
«Ситроен» делает последний поворот и едет между двумя рядами новых домов с заниженными потолками, бетонирующих длинную трещину неба. Вдалеке две высокие трубы выплевывают клочки серой ваты на фасады в линялых пятнах выстиранного белья.
— Я живу в доме пятнадцать, — говорит Мария, — рядом вон с тем, где выбиты стекла. Через пять минут вы снова тут проедете и взглянете на окна девятого этажа. Если все в порядке, я буду трясти ковер. Что бы ни произошло, большое за все спасибо.
* * *Она вышла из машины, даже не взглянув на пострадавший дом семнадцать, где уже шел ремонт; какой-то рабочий, завидев ее, восхищенно присвистнул; Мария вошла к себе в подъезд одновременно с незнакомой пожилой парой, которая поздоровалась с новой консьержкой; та стоит с вязаньем на пороге своей комнаты, протыкая каждого входящего взглядом таким же острым, как спицы в ее руках. Вместе с этой парой — пусть считают, что она их родственница, — Мария пересекла холл и вошла в лифт, куда в последнюю минуту набилось еще четыре человека; она поздравила себя с тем, что они принадлежат к числу безымянных обитателей двухсот сорока трех недорогих квартир, среди которых в конце коридора находится и ее скромное жилище.
Все кажется таким странным. Глухой звук шагов по каменным плитам, запахи еды, крики детей, бульканье воды в трубах, надписи на стенах, вытертые соломенные коврики у дверей, истоптанные ногами целой семьи, — все говорит о привычной, размеренной жизни. Мария стоит перед своей визитной карточкой, приколотой к двери четырьмя кнопками с белой пластмассовой головкой. Она пришла к себе в гости и потому звонит. Затем отпирает дверь поворотом ключа. Подбирает с пола два письма, захлопывает дверь и инстинктивно, чтобы снова почувствовать себя дома, ставит на проигрыватель первую попавшуюся пластинку, запись Арта Тэйтама — звучат начальные такты «You took advantage of me».[16] Потом подбегает к окну и принимается трясти небольшой коврик, подделку под персидский, что лежит у ее кровати. Черный «ситроен» проезжает мимо, легонько просигналив два раза. Мария кладет коврик на место и, усевшись на него, слушает очередную песню — «I'll never be the same».[17]
Песенка как раз про нее! Мария не без удовольствия обводит глазами комнату. Тридцать квадратных метров, приобретенные в рассрочку, с оплатой помесячно; за стеной — ванна, где барышня купается, — и все это принадлежит ей. Это — ее кокон, где она может пользоваться хотя и весьма относительной, но дотоле не изведанной свободой. Здесь она чувствовала себя независимой, застрахованной от приводившей ее в ярость фразы: «дочь моего мужа», которую она беспрестанно слышала в доме, откуда госпожа Пачеко-вторая изгнала всякую память о госпоже Пачеко-первой. Впрочем, память об этой последней бережно перенесена сюда, и теперь со стены улыбается лицо молодой женщины, которая была ее матерью и которая умерла при ее рождении; фотография матери висит напротив фотографии возможного зятя точно в такой же рамке. Все осталось на своих местах, и все изменилось. Эннис Пачеко, ставшая вдовой своего вдовца, смотрит на дочь, которой грозит тоже стать вдовой, только еще до свадьбы.
Хватит киснуть! Мария поднимается. Вскрывает первое письмо — это сухое уведомление об увольнении с работы, «поскольку не было представлено ни справки о болезни, ни какого-либо другого оправдательного документа, объясняющего неявку на службу в нарушение приказа о возобновлении работы». Мария вскрывает второе письмо — это напоминание о необходимости заплатить страховку, срок оплаты просрочен уже на две недели. В воздухе запахло угрозой. Оба письма, разорванные на восемь частей, кучкой конфетти летят следом за конвертами в корзину, и Мария, раскрыв шкаф, вытаскивает оттуда свой единственный чемодан.