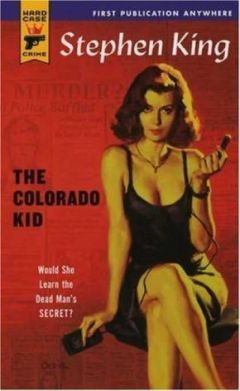НОРМАН МЕЙЛЕР - ЛЕСНОЙ ЗАМОК
Должно быть, именно поэтому Маэстро рекомендует нам называть Бога Б-ном. (То есть Болваном. В германоязычных странах это звучит как D. К., то есть Dummkopf. В Америке это D.A., dumb ass! В Англии — В. F., bloody fooll Во Франции — A. S., l'аmе simple. В Италии — G. С, gran cornuto. В Испании — G. P., grande payaso.) И дело не в том, что мы считаем Бога глупцом, — отнюдь!
Более того, на собственном опыте (включая горький опыт проигранных битв) нам известно, что Наглые могут при случае оказаться ничуть не глупее и куда изобретательнее, чем мы сами. Употребление нами слова Болван объясняется, как я это понимаю, непреклонной решимостью Маэстро избавить нас от главного из присущих нам недостатков — невольного восхищения Всемогущим. Как Маэстро никогда не дает нам забыть, Бог может быть сколь угодно властен, но все же не всевластен. Едва ли Он всевластен. Иначе бы нас самих просто не было. Если Б-н — Творец Всего Сущего, то мы безжалостно-язвительные критики Его творчества.
Тем не менее мы вынуждены считаться с тем, что ангелам удалось убедить чуть ли не все человечество в том, что наш предводитель является Воплощенным Злом. Поэтому Маэстро порекомендовал нам признать это обидное прозвище почетным титулом. И когда я устно или письменно употребляю сокращение В. 3. или словосочетание «Воплощенное Зло», то поступаю так, полностью осознавая ироническую подоплеку самой концепции. Маэстро, наш величавый предводитель, научил нас насмешливости.
«Оставим благоговейный трепет богопоклонникам, — сказал Он нам. — Они в нем нуждаются. Они так и не поднимутся с колен. А нам надо работать, и это трудно. Поэтому я рекомендую вам мыслить Его Болваном. Потому что, если призадумаешься над тем, чего Он мог достичь и чего на самом деле достиг, Он таков и есть. Запомните: нам предстоит завоевать мир. А Ему — потерять. Поэтому именуйте Его Болваном. Сотворив мужчину и женщину, Он добился прямо противоположного тому, к чему стремился».
5Запах собачьей мочи, кала и крови стал первым из целой серии впечатлений, основополагающих в деле трансмогрификации, то есть драматического и коренного преображения.
Так, например, опорожнение Адольфом кишечника приобрело доминирующее значение в жизни Клары на Линцерштрасе. До того как произошло избиение Лютера, она, разумеется, тщательно следила за тем, чтобы младенческая попка (как бы часто Ади ни пачкал пеленки) всегда оставалась чистой; как я уже отметил, этот ритуал превратился для них обоих в нечто вроде любовной ласки. Мать подтирала попку сыну так нежно, что его глазки начинали блаженно блестеть. Он словно бы открывал для себя рай. И где же находился этот рай? Прямо в заднем проходе — там же, где газики и всевозможные болезненные ощущения. Нежно, любовно, вдохновенно подтирала Клара, извлекая кусочки кала, твердого или жидкого, свой розовый бутончик (потому что именно так называла она втайне попку Ади с крошечной прелестной дырочкой — die Rosenknospe). Вид розовой с матовым отливом кожи приводил ее в такой восторг, что она не могла скрыть этого даже на глазах у пасынка с падчерицей. К тому же, в отличие от большинства молодых матерей Браунау, она не старалась обучить Анжелу тому, как подменять ее, ухаживая за младенцем. В конце концов, во всей процедуре для Клары не было ровным счетом ничего противного. Кал Ади (зачастую столь же пахучий, как у любого другого младенца, когда его мучают желудочные колики) никогда не вызывал у нее отвращения. Когда его рвало — и пахло при этом не просто рвотой, но, хуже того, той внутренней пустотой, которая свидетельствует о начале серьезного заболевания, — Клара бестрепетно вдыхала эту вонь. Она ей даже нравилась. Чем хуже пахнет, тем лучше. Свое дерьмо не воняет. Вот как сильно любила она Ади.
Да, меж ними то и дело искрой проскакивала любовь. Его глазки пускались в пляс, стоило ей провести по его щекам легкой как перышко салфеткой, а ее глаза (не важно, сознавала она это или нет) смотрели на него с таким восхищением, что его маленький пенис вставал. Хихикнув, она укладывала его на место (со всей деликатностью), и теперь уже смеялись они оба. Из-за чего пенис, разумеется, вставал опять. А ей хотелось поцеловать его в самый кончик, и щеки ее заливались страстью. Но не будем клеветать! Она этого так и не сделала. Ни разу. Такой невинный малыш!
И все это пошло вразнос после эпизода с Лютером.
Теперь Клара вновь жила в вечном страхе перед Алоисом. А что, если крошка Ади написает прямо на пол? И Алоис в этой лужице поскользнется? Однажды, уже уйдя было на кухню готовить, она в последний миг вернулась в комнату, увидела, как дитя играет с собственными какашками, и содрогнулась при мысли о том, что как раз в эту минуту может вернуться Алоис.
Итак, началось натаскивание. Она отучала Адольфа гадить, как умного, но своенравного пса. В первое время он теребил ее за юбку, таща к чуланчику, в котором стоял ночной горшок, плакал, чтобы она его поскорее раздела и подмыла. После чего они, неразлучники, и приступали к подмыванию и переодеванию. Он вел себя хорошо, и она нахваливала его во весь голос, но глазки малыша смотрели на нее исподлобья.
Однако она проявила излишнюю самонадеянность, то есть все ту же амбициозность. Ей захотелось, чтобы Ади научился самостоятельно расстегивать крючки, на которые застегивалась его одежонка. И так оно и случилось. Мальчик демонстрировал ежедневный прогресс до тех пор, пока однажды не уколол себе палец. А после этого не хотел сам расстегиваться уже ни в какую. У нее иссякло терпение. Он был так близок к успеху — и вдруг все сорвалось. В конце концов она прикрикнула на него, и это был определенно первый раз, когда он узнал, что мать может разговаривать и в таком тоне. И взбунтовался. Уже понимая, как дорог матери, то есть вполне сознательно, так же сознательно, как следил за Алоисом, избивающим Лютера. Тогда для него наступил момент истины. Он еще не понимал разницы между человеком и собакой, и Лютер казался ему точно такой же персоной, как отец, но он увидел окончательный результат и мгновенно осознал его значение: Лютера охватил невыразимый ужас, и тем не менее он не разлюбил хозяина.
Значит, понял Ади, и Клара не разлюбит его, даже если он прекратит ее слушаться. Теперь ему разрешили разгуливать по дому с голой попкой, и он приноровился гадить аккурат рядышком с горшком (правда, только в тех случаях, когда отца не было дома). Что заставляло Клару мысленно наорать на него — только мысленно, однако столь отчаянно, что Ади словно бы слышал каждое не произнесенное ею слово. В результате чего он почувствовал себя ее хозяином.
Он зашел слишком далеко. Однажды утром, пока она драила пол на кухне, он размазал свои какашки по валику мягкого дивана в гостиной и всмотрелся в дело рук своих, испытывая странное, но приятное волнение: на сей раз ситуация выглядела по-новому. В ней появился элемент риска. Тем не менее он сам покажет ей, что за безобразие учинил. Тем более!
На этот раз она и впрямь застыла как вкопанная. Она почувствовала, что он сделал это нарочно, и не произнесла поэтому ни слова. Она принялась молча обтирать диван, а он опять обкакался и начал смеяться, да так, что его стошнило, но она, никак не реагируя на приступ веселья, неласково обтерла и подмыла его. Это произвело на него такое впечатление, что ночью он поднялся и отправился к ней в спальню. Алоис перед этим отсутствовал целую неделю (его вызвали на предварительное собеседование в Пассау), но как раз незадолго до полуночи вернулся домой. Поскольку мальчик уже повадился захаживать к матери в спальню, когда она ночевала одна, сейчас его удивило, что, когда он заглянул в полуоткрытую дверь, из спальни послышались тихие причитания и повизгивания, а затем во всю бычью глотку заорал Алоис. Откуда-то из-под него доносилось материнское поскуливание, нежное и вместе с тем страдальческое, словно ее мучали, но мучали понарошку и эта мука вот-вот… ну, еще немного… ну, уже прямо сейчас обернется радостью… Нет, еще нет! Сквозь полуоткрытую дверь (нарочно не закрытую, чтобы услышать, если малыш вдруг проснется и заплачет) он увидел нечто непостижимое уму: нечто четвероногое и четверорукое, нечто составленное из двух людей, лежащих друг на дружке валетом. Он увидел голый череп и пышные бакенбарды Алоиса меж материнских ног. И тут, не произнеся ни слова, его отец внезапно принял сидячее положение. И оказалось, что он сидит у матери на лице!
Адольф ушел прочь так же бесшумно, как подкрался, но теперь все стало ясно. Мать изменяет ему. И как раз в этот миг из родительской спальни донеслись заключительные крики — столь отчаянные, что это заставило его вернуться. Светила луна, и он видел, как отец обрабатывает Клару всем телом, глухо состукиваясь пивным брюхом с ее животом. А она скулит как собака. И прямо-таки с собачьей преданностью! «Уродец, скотина, тварь, ёбарь! Да!!! Да!!! — И тут же снова: — Да!!!» Ни малейших сомнений: она была счастлива. Да!!!