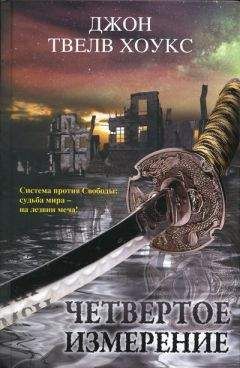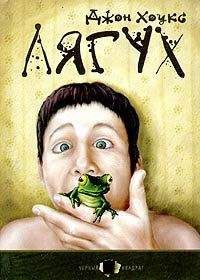Людоед - Твелв Хоукс Джон
Постепенно голова Эрнста начала клониться вперед, ближе к столу. Он рассказал их историю, они счастливы, он подумал, будто кто-то движется у него над головой, но затем понял, что не слышал ничего. Кромуэлл рассказывал ему все, чего Эрнсту знать не хотелось, и он ждал шагов кухарки, или старика-отца, или нянечки, пришедшей согреть бутылки. Кромуэлл витийствовал, улыбался и говорил по секрету, непринужденно, о нижнем мире. За столбцом цифири, широкоохватными заявлениями старая дружба там была пощелкивавшей иглой, голосом, доносившимся из портфеля, — с выученными назубок фактами и осадами, надеждами, обращенными в требования, говорил он, дабы убедить их всех, от генерала до щеголя. Голова Эрнста коснулась стола. Кромуэлл не утомился долгой поездкой в гору, а говорил быстро, как будто был он повсюду и у груди своей носил щекотливые карты и расчеты, сами те секреты, коими жили они.
— …Антверпен пал. Их прохватило пушкой Круппа, 42 сантиметра, и, к счастью, я сумел все это увидеть [26]. То было как успех Хоэнлоэ в Африке [27], больше, изволите ли видеть, нежели просто сборище людей ради их собственного блага, больше всего прочего похоже на единство государств, вроде «Цоллферайна» [28], довольно-таки полный успех, массовое движение больше нации, успех почище, чем у Пруссии в деле Шлесвих-Хольштайна [29]. Мы сражались, захватили район Суассона, и нас не могли выбить из Сан-Мьеля — слава германской армии! [30] Линия фронта теперь от Английского канала до Швейцарии, и дожидаемся мы лишь весны. Мы растянулись поперек Европы на в общем и целом четыре сотни миль.
Совсем стемнело, утро обратилось вспять невыносимым вероломством. На столе оставалась холодная каша. Эрнст подумал, что, возможно, стоит заново пожать Кромуэллу руку, сходить еще за кофе. Он потерял нить, долгую цепочку вируса, что держит человека на якоре при его нации, вынуждает действовать в ее политике, сиять в ее победе и умирать в ее разгроме; утратил смысл жертвы, осады, шпионажа, смерти, социал-демократии или воинствующего монархизма. Потерялся он, газеты разметало по отвесным утесам, проволоки свернулись витками, врезались в снег. И он молился за едой, ничего не зная о коллективной борьбе ненавистного Пруссака и гения Гунна, не зная ничего об окружающем мире, наручниках, блокаде. Тот воздух, зримо сочась под окном, через фруктовый сад и изрытый норами стог сена, весь кишел красными и желтыми проводами, целовал встревоженного обер-лейтенанта и глупого подрывника, курящего свою трубку в воронке. Глаза жгло; средь дуденья свистков он оставлял лоскутья в легких, этот желтый туман. Он вползал в окно, гора соскальзывала ниже, рельсы уступали вязнущим в атаке ногам.
— Их хорошо обучили, — сказал Кромуэлл, — весной долины падут… расширение… мы должны добиться технического развития. Ни у единой нации нет нашей истории. — В портфеле у него лежал список из семисот заводов, где локомотивы разворачивались на поворотных платформах, а над низкими кирпичными зданиями нависала вонь кордита. Мир измеряется восходом и паденьем этой империи.
Управляющий гостиницы брился и вскоре спустится. Нянечка, румяная и молодая, держалась, как мать, улыбаясь ребенку в темноте. В окрестностях Камбре [31], где фланговому продвижению Союзников не удалось оттеснить крайне правое крыло германцев, полупогребенной в листве и снегу лежала на развилке глиняных дорог мыза, уничтоженная артиллерийским огнем. Там Купец, без мыслей о торговле, одетый лишь в серое, все еще жирный, в первый свой день на фронте погиб и застрял, стоя по стойке смирно, меж двух балок, лицо запрокинуто, сердитое, обеспокоенное. В открытом рту покоился крупный кокон, торчащий и белый, который иногда шевелился, как живой. Брюки, опавшие вокруг лодыжек, наполнены были ржою и клочьями волос.
Когда Стелла проснулась, ею по-прежнему владела греза; не отпускала ее в тусклом свете. Заглянула в постель Эрнста — и увидела лишь маленького черноволосого Христа на подушке, глаза широки и недвижны, он дрожал и одной тоненькой ручкой отмахивался от нее.
— Maman, — воскликнул под окном детский голосок, — старый конь сдох!
Похоть
Всю ночь напролет, невзирая на грохот вагонных колес и ветер, колотивший в шаткие оконные стекла, Эрнст слышал вой собак в проезжих полях и у насыпи. Халат висел у него на плечах и схвачен был у горла, тяжкие складки грубы и темны, проштампован ротной печатью как Собственность железной дороги. Халатами завалили все пустые купе, тусклый огонек покачивался над головой, а холод становился до того суров, что проводник, кому беспрерывно хотелось взглянуть на их документики, был раздражен, назойлив. Купе — или же салон — общественного бежевого цвета, неприбранное, с зелеными шторками и узкими сиденьями, раскачивалось туда и сюда, швыряя кругами ничем не затененную лампочку, громыхая их багажом, наваленным у тонкой двери. То определенно выли псы. Прижав лицо к стеклу, Эрнст слышал галоп их лап, скулеж и сопенье, раздававшиеся между воем. Ибо в отличие от величественных псов, каких можно отыскать в земле перекати-поля, прославленных своею сокровенной меланхолией и ленивой высокой песнью, кто вроде бы всегда сидит на корточках, отдыхая и лая, эти собаки мчались вместе с поездом, цапали зубами соединительные тяги, клацали на фонарь тормозного вагона и вели беседу с бегущими колесами, заклиная впустить их в общий салон. Они б вылизали тарелку молока или высосали кость, что человечьему глазу покажется сухой и выскобленной, не пачкая изношенные коридоры половиков, и под зеленым огоньком не стали б жевать периодические издания или драть когтями каблуки проводника. Как заплатившие за проезд пассажиры, они б поели и подремали, а в конце концов спрыгнули бы с неохраняемых открытых площадок между вагонами в ночь и стаю.
Маленькая паровая труба, позолота ее давно облупилась от копоти, согнутая, как локоть, принялась дребезжать и пыхтеть, но после еще нескольких тычков, еще нескольких свистков паровоза, тужившегося в голове поезда, — скончалась. Допущенная к проезду вонь пыли и набивки, озноб под темным потолком паутин усилились, и Стелла пыталась отдохнуть, покуда Эрнст наблюдал, как мимо проходит ночь — раздражающе медленно и слишком уж темно, не разглядишь. Топка у паровоза была маленькая, вся закутанная, верная и на ночь бесстрастная, кочегар клевал носом над лопатой, старый солдат смиренно бродил по пустому багажному вагону, и Эрни, придерживая шаль, размышлял, что за жуткая хворь свалилась ему на плечи. И всего-то показать нужно было, что отвергнутое распятие полудурка, обернутое бурой бумагой, на дне коврового саквояжа. Ночью останавливались они на многих мелких полустанках и разъездах, но никакие пассажиры не садились в поезд и не выходили из него.
Медовый месяц закончился, гора осталась далеко позади, и когда они пошли вниз по дороге — старый конь давно уж отбросил копыта, — Кромуэлл окликнул:
—: Что ж, скоро увидимся, жаль, что вам нужно спешить, — и неловко помахал своим портфелем.
— Не думаю, — ответил Эрнст и вогнал посох в снег. Никого там не было, никого; они путешествовали одни, если не считать псов по снегу, чей край, в лигах позади, был осажден. Но когда следующим утром они втянулись в город, в дас Граб, сотни людей топтались вокруг депо, толкались возле поезда, но не обращали на него никакого внимания. Когда она помогла ему спуститься по железным ступенькам и лицо у нее разрумянилось от мороза, он понял, что все изменилось, что псы обогнали их к месту назначения. Поезд этот уж точно больше никогда не поедет, Эрнст был уверен и знал, что путешествие окончено. Черное лицо машиниста еще спало, бронированный кулак запутался в шнуре гудка, голова подперта предплечьем в окошке без стекла. — Прощай, — сказал Эрнст, соступая в толпу, что курилась паром и дребезжала, как винтовочные пирамиды и лопаты, и ноги, стучащие в бункерах.