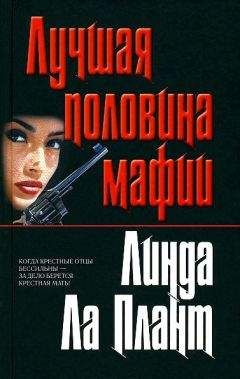Хуан Рульфо - Равнина в огне
Он говорил, и крупные капли пота выступали у него на лице. Ночной ветер осушал их. Но на месте высохшего проступал новый пот.
«…Я надорвусь, но дотащу тебя до Тонайи, и там залечат полученные тобою раны. Хотя я и уверен, что, поправившись, ты снова возьмешься за старое. Неважно. Мне это безразлично. Только бы ты навсегда покинул наши места, чтобы я не слышал о твоих злодействах… Только чтобы я про тебя ничего не слышал… Потому что ты мне больше не сын. Я проклял каждую свою каплю крови, что течет в твоих жилах. Я проклял все, что ты унаследовал от меня. Да сгинет навеки в его чреслах кровь, которую я вместе с жизнью дал ему! — так я сказал, когда до меня дошла весть, что ты шатаешься по дорогам с шайкой бандитов, грабишь и убиваешь людей… Честных, добропорядочных людей. За примером ходить недалеко. Кум Транкилино. Человек, давший тебе свое имя. Но и его не минула злая судьба — привела повстречаться с тобой. Тогда я сказал себе: „Он мне больше не сын…“»
— Ну-ка, посмотри, может уже завиднелись дома? Или что-нибудь слышно стало? Тебе-то с моей спины и видней и слышней, а то у меня уши заложены.
— Нет, я ничего не вижу.
— Беда, Игнасио, беда мне с тобой.
— Водицы бы испить…
— Потерпи. Надо быть, уже недалёко. Ночь — вот горе. Ни одно окошко, поди, не светится. Но собаки должны бы лаять. Прислушайся.
— Пить…
— Пить! Где я тебе тут воды возьму? Камни одни кругом. Терпи уж. А хоть и была бы вода, как я ее наберу? Кто мне после поможет на спину тебя взвалить? Одному мне не справиться.
— В сон кидает, нет мочи… Пить…
— Помню я, когда ты родился. Тоже вот так. Только и просыпался, чтобы молока насосаться, а насосешься — сызнова спать. Пока мать не догадалась: водой стала тебя поить, а то все молоко из нее вытянул. Не накормить — прорва! А уж злости! Но только не думал я, что придет время и злость эта в голову тебе кинется… Ан вышло-то по-другому. Мать, царство ей небесное, хотела, чтобы ты вырос крепким, сильным. Надеялась, опорой нам станешь, старикам. Один ты у нас был. А второй сын жизни ей стоил. Ну, да не умри она родами, доживи до сегодня, теперь бы ты ее убил.
Колени, сжимавшие его бока, внезапно расслабились, ноги повисли, как тряпичные. И старику почудилось, что голова, лежавшая сверху на его голове, задергалась, будто от плача. Тяжелые, теплые капли, похожие на слезы, омочили ему волосы.
— Ты плачешь, Игнасио?
«Ты плачешь потому, что вспомнил мать, да? Но ты никогда ничего не сделал для нее хорошего. Ты дурно платил нам свой сыновний долг. Можно подумать, что не мы с матерью сотворили тебя из нашей любви, а что тебя создало и воплотилось в тебе само зло. Смотри же, чего ты добился. Ты тяжело ранен. Где теперь твои дружки? Их всех перебили. Но у них никого не было. Вот они и могли бахвалиться: „По нас некому слезы лить!“ А по тебе, Игнасио?»
Он увидел впереди первые дома Тонайи. Наконец-то! Крыши так и блестели, облитые лунным светом.
Он переставлял ноги из последних сил, колени у него дрожали, он чувствовал: еще два-три шага — и он рухнет под тяжестью своей ноши. Дотащившись до первого дома, он оперся о край тротуара и спустил со спины расслабленное тело сына. Оно мешком повалилось на землю.
С натугой разняв у себя под подбородком сцепленные пальцы Игнасио, он освободил голову, и в тот же миг в уши ему со всех сторон ударил собачий лай.
— И ты не слышал, как они лают, Игнасио? — проговорил он. — Даже надеждой и той меня не поддержал.
Северная граница
— Отец, я вам пришел сказать: я в дальнюю дорогу собрался.
— Куда же это, если не секрет?
— На Север.
— А чего ты там не видал, на Севере? Тут у тебя вроде собственная торговля имеется. Или уже бросил свиньями торговать?
— Поневоле бросишь, раз барыша нет. Не торговля — чистое разорение. На той неделе зеленью одной были сыты, а в эту — и вовсе зубы на полку. Голодаем мы, отец. Вам что — вон как живете, вам с голодухи живот не подводило.
— Что, что ты там мелешь?
— Да вот голодаем, говорю. Вам какая забота? Торгуете своими шутихами, цветными огнями да порохом — и горя мало. Что ни праздник, деньги лопатой гребете. Только не каждому в жизни такая удача, отец. Худые нынче времена, народ свиней разводить бросил. Если и есть у кого кабанчик, так для себя его держат либо уж закололи. А продают — втридорога запрашивают. Поди купи его за такие-то деньги, когда у тебя ни гроша в кармане. Кончилась моя торговля, отец.
— За каким же чертом-дьяволом тебя на Север несет?
— Подзаработать там думаю. Вы на Кармело поглядите — нажился, богачом вернулся, даже патефон привез. Теперь к нему денежки сами плывут. Желаешь музыку послушать, пожалуйста, гони пять сентаво, поставит тебе по вкусу танец, или Андерсон[8] эту, которая песни поет жалостные. Ему все равно — по пять сентаво за номер — и точка. Народ у него перед домом в очереди стоит. Вот и посудите, трудно ли: поехал и вернулся — всего и дела. Посмотрел я, посмотрел и тоже надумал на Север податься.
— А куда ты жену с детьми денешь?
— Для того я к вам и пришел. Попросить хочу, чтобы вы о них тут позаботились.
— Я что, в няньки к тебе нанялся? Уезжаешь — дело твое, стало быть, на Божье попечение их оставляешь. Где уж мне теперь детей подымать! Хватит того, что тебя с сестрой вырастил, царство ей небесное. Вполне с меня хватит. Охота была этакий хомут на шею себе надевать. Был конь, да изъездился.
— Уж и не знаю, отец, не придумаю, что и сказать вам. Одно только скажу: вам недорого обошлось вырастить меня. Что я в жизни видел, кроме трудов да горя? Народили на свет, а дальше как сам знаешь, хоть пуп надорви. Даже не обучили своему ремеслу: огни потешные изготовлять. Хлеб, что ли, боялись, отбивать у вас стану? Дали портки да рубашку и выставили на улицу — сам выкручивайся, учись, как на свете жить. Да чего уж, выгнали вы меня, взашей вытолкали. Вот оно и вышло, что мы теперь с голоду подыхаем: сын с невесткой и внуки — всё, как говорится, потомствие ваше. Того и гляди, ноги протянем, околеем всем семейством. А если я что обидное вам сказал, погорячился, — так с голоду это. Только хорошо ли, по совести ли вы поступаете, а? Сами скажите.
— Мне-то какое дело до твоих неполадок. Не было печали, черти накачали. А ты бы не женился. Ты моего родительского разрешения на женитьбу не спрашивал. Ушел из дому, и дело с концом.
— Чего ж было спрашивать, когда вам моя Трансито не по нраву пришлась. Вы вспомните, как оно было. Привел я ее в гости, говорю: «Вот, отец, девушка та, про которую я рассказывал, что жениться хочу». А вы и в ту сторону не смотрите, только чего-то плести стали, со стишками да прибаутками, наметки давать, дескать, девица эта вам хорошо известная и будто было у вас с ней что, вроде как с гулящей. Наговорили с три короба: я и не разобрал, что вы там накручивали, одно только понял — насмешки над ней строите да все не по-хорошему. Вот и не стал ее больше к вам приводить. Так что зря вы на меня обиду держите. А теперь я прошу об одном: позаботьтесь об ней. Я ведь и в самом деле уезжаю. Тут никакой работы нет — днем с огнем не сыщешь.
— Враки! Работай, сын, будешь сыт, а кто сыт, не тужит. Вот тебе и весь сказ, а ты его обмозгуй. Посмотри, я старик, но жаловаться не привык. А был молодой, так и вовсе герой, даже на баб денег хватало. Работа, она тебя всем обеспечит, а уж насчет пропитания и прочих телесных надобностей и говорить нечего. Все дело в дурости твоей. А дурости я тебя не учил, это уж ты не ври.
— Но вы меня на свет народили. Значит, должны бы помочь и на ноги встать, а не выгонять, как коня на чужое маисовое поле.
— Ты, когда из дому ушел, немаленький был. Или ты думал весь век у меня на шее сидеть? Так это одни только ящерицы до самой смерти под тем камнем живут, где вывелись. По-честному, не так-то уж тебе плохо было: бабой обзавелся, детей наплодил. А иным и твоего отведать не доводится. Проходят они по земле, как воды речные. И не пили, и не ели.
— Вы бы хоть меня присловья да стишки научили сочинять. Сами-то умеете. Какой-никакой, а был бы приработок. Вы вот народ веселите — зарабатываете. И я бы так мог. А стал вас просить — научите, вы посоветовали: «Какой со стихов доход, уж лучше яйцами торговать». Я и завел торговлю. Сперва, точно, яйцами, потом курами, потом за свиней взялся. И до сих пор, ничего не скажу, сводил концы с концами. А теперь прожился: дети пошли, на них не напасешься; деньги плывут, как вода, на торговлю ни шиша не остается. Взял бы в долг — да уж не верит никто. Правду вам говорю: ту неделю на зелени перебивались, а эту — и зелени купить не на что. Вот я и решил на Север двинуть. Хоть вы и не верите, а у меня сердце на части разрывается, потому что я своих детей люблю. Не то что вы: еще и подрасти мы не успели, а вы нас — за порог.
— Запомни, сын, что я тебе сейчас скажу. Раз птичка гнездо вьет, значит, и яичко кладет. Доживешь до седых волос — научишься уму-разуму. Узнаешь, какова сыновья благодарность. Бросят тебя дети и «спасибо» не скажут, а после самую память о тебе расточат по ветру вместе с твоим добром.