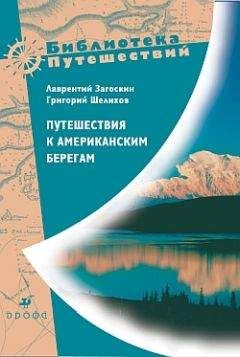Луи Селин - Путешествие на край ночи
У бедняка есть в этом мире два основных средства, чтобы подохнуть, — абсолютное равнодушие себе подобных в мирное время, мания человекоубийства во время войны. Если ближние и думают о вас, то лишь затем, чтобы мучить, и только. Их, сволочей, вы интересуете только окровавленным. В этом смысле Зубрёж был совершенно прав. Зная, что тебя неизбежно погонят на бойню, не будешь особенно размышлять о будущем и думаешь только о том, как заполнить любовью еще оставшиеся у тебя дни, потому что это единственный способ хоть на время забыть о своем теле, с которого вскоре сверху донизу сдерут кожу.
Поскольку Мюзин меня избегала, я возомнил себя идеалистом; так называешь себя, когда одеваешь свои мелкие инстинкты в громкие слова. Мой отпуск подходил к концу. Газеты били во все колокола, требуя призыва всех, кто способен носить оружие, в особенности тех, у кого нет связей. Думать о чем-нибудь, кроме победы, официально запрещалось.
Как и Лола, Мюзин жаждала, чтобы меня быстренько отправили на фронт и я там остался, а так как я, безусловно, туда не торопился, она решила ускорить дело сама, что вообще-то было ей не свойственно.
Как-то вечером возвращаемся мы случайно вместе в Бийанкур, а тут проезжают горнисты-пожарники и все жильцы нашего дома сломя голову несутся в подвал по случаю какого-то цеппелина.
Такие паники по пустякам, когда весь квартал в одних пижамах, похватав свечи, с квохтаньем исчезал под землей в надежде спастись от почти мнимой опасности, доказывали, как устрашающе пустоголова вся эта публика, превращающаяся то в перепуганных кур, то в покорных самовлюбленных баранов. Подобная чудовищная неуравновешенность — лучшее средство внушить отвращение самому терпеливому и убежденному человеколюбцу.
С первым же раскатом тревожного горна Мюзин забыла о храбрости, которую в ней обнаружили в «Театре для армии». Она потребовала, чтобы я поспешил с ней в подвалы, в метро, в канализационный туннель — словом, куда придется, лишь бы очутиться в укрытии как можно глубже и, главное, как можно скорее. В конце концов от этого зрелища удирающих обывателей, толстых и тонких, вертлявых и величественных, наперегонки рвущихся к спасительной дыре, даже мне все стало безразлично. Трус или смельчак — невелика разница. Кролик или лев по натуре, человек всегда человек, он нигде не думает. Все, что не относится к добыванию денег, — бесконечно выше его. Суть жизни и смерти ему недоступна. Даже о собственной кончине он судит и рядит вкривь и вкось. Ему понятны лишь две вещи — деньги и зрелища.
Видя, что я упираюсь, Мюзин расхныкалась. Другие жильцы тоже тащили нас с собой, и я уступил. Загорелся спор, в каком подвале прятаться. Наконец большинство выбрало погреб мясника: он, дескать, заложен глубже, чем все остальные в доме. С порога там бил в нос острый запах, хорошо мне знакомый и показавшийся в ту минуту нестерпимым.
— Мюзин, неужели ты полезешь туда, где мясо на крюках висит? — спросил я.
— Почему бы нет? — удивилась она.
— Мне это слишком многое напоминает, и я лучше вернусь наверх, — сказал я.
— Значит, уходишь?
— Ты придешь ко мне, когда все кончится.
— Но ведь это может затянуться?
— Нет, я лучше подожду тебя наверху. Не люблю мяса, а налет долго не продлится.
Во время тревоги жильцы, чувствуя себя в безопасности, обменивались игривыми любезностями. Дамы в пеньюарах, спустившиеся последними, изящно и уверенно углублялись под пахучие своды, и мясник с мясничихой, стараясь принять их повежливей, извинялись за искусственный холод: он необходим для сохранности товара.
Мюзин исчезла в подвале вместе с остальными. Я прождал ее у нас наверху ночь, день, год. Она так ко мне и не вернулась.
С тех пор меня стало трудно удовлетворить, и в голове у меня сохранились только две мысли — спасти свою шкуру и уехать в Америку. Но до этого мне пришлось еще долгие месяцы лезть из кожи, чтобы увильнуть от войны.
«Пушек! Людей! Снарядов!» — вот чего не уставали требовать патриоты. Казалось, им не усидеть спокойно, пока несчастная Бельгия и безобидный маленький Эльзас несвободны от немецкого ига. Нам вдалбливали, что лучшие из нас не должны ни дышать, ни есть, ни совокупляться: жить можно только этой идеей. Правда, она не мешала уцелевшим делать дела. Словом, высокий моральный уровень тыла не вызывал сомнений.
Всем надлежало немедленно возвращаться в свои части. Но на первом же осмотре мое состояние было оценено настолько ниже среднего, что годен я оказался только на отправку в другой — костно-неврологический — госпиталь. Однажды утром мы, шестеро раненых и больных, три артиллериста, три драгуна, вышли со сборного пункта и отправились искать место, где ремонтируют потерянную доблесть, утраченные рефлексы и сломанные руки. Сначала, как все раненые в те годы, мы прошли контроль в Валь-де-Грас[26], величественной старой крепости, обросшей деревьями, как бородой, где в коридорах здорово разило омнибусом — запахом, сегодня и, видимо, навсегда исчезнувшим, смесью вони от ног, соломы и масляных фонарей. В Валь-де-Грас мы не задержались: не успели мы появиться, как два офицера административной службы, переутомленные и обсыпанные перхотью, наорали на нас, грозя нам военным судом, а другие администраторы вышвырнули нас на улицу. Нет у них для нас мест, объявили они, указав нам неопределенное направление на какой-то бастион в пригороде.
От бистро к бастиону, от стаканчика спиртного к чашке кофе с молоком мы брели вшестером наугад, плутая в поисках нового пристанища, предназначенного, видимо, для лечения немощных героев вроде нас.
Только один из нас обладал каким-то намеком на имущество, целиком, надо сказать, умещавшееся в жестянке из-под галет «Перно», знаменитой тогда марке, о которой я давно уже не слышал. В ней наш товарищ держал папиросы и зубную щетку; поэтому мы даже смеялись над ним — подобная забота о зубах встречалась тогда не часто — и даже дразнили его «гомиком» за такую необычайную утонченность.
Наконец, к половине ночи, после долгих скитаний, мы подошли к разбухшим от темноты валам бастиона номер сорок три в Бисетре[27]. Его-то мы и искали.
Бастион только что отремонтировали для приема калек и стариков. Сад был еще не разбит.
К нашему прибытию на военной половине находилась только одна привратница. Шел сильный дождь. Услышав наши шаги, она перетрусила, но мы ее тут же рассмешили, цапнув за известное место.
— Я думала, немцы! — воскликнула она.
— Они далеко, — успокоили мы ее.
— С чем у вас непорядок? — забеспокоилась она.
— Со всем, кроме одной штучки, — брякнул один из артиллеристов.
Сказанул он, спору нет, ловко, и привратница это признала. Позднее в том же бастионе разместили стариков из «Общественного призрения». Для них спешно построили новые корпуса чуть ли не сплошь из стекла, где их, как насекомых, и продержали до конца военных действий. Окрестные холмы покрылись сыпью крошечных участков, которые перемежались лужами жидкой грязи, заполнившими пространство между убогими лачугами. Около последних росли латук да чахлая редиска, которыми — скорее всего, из уважения к владельцам — лакомились зажравшиеся улитки.
В госпитале у нас было чисто, как всегда бывает первые несколько недель, когда и надо осматривать такие места, потому что у нас не любят поддерживать порядок и все, можно сказать, ведут себя как форменные пакостники. Устроились мы, значит, на металлических койках как попало и при лунном свете: помещение было такое новое, что электричество еще не успели подвести.
После подъема знакомиться с нами пришел наш главный врач, очень, по всей видимости, довольный нашим прибытием и очень радушный. У него были свои причины радоваться: его только что произвели в майоры медслужбы. Глаза у этого человека были красивейшие в мире, сверхъестественно бархатистые, чем он успешно пользовался, волнуя четырех наших доброволиц-сестричек, с предупредительными ужимками окружавших главного врача и не сводивших с него глаз. С первой же встречи он предупредил нас, что займется нашим моральным состоянием. Не чинясь, он запросто взял за плечо одного из нас и, отечески опираясь на него, бодрым голосом начертал правила поведения и наикратчайший маршрут, которым нам следует не унывая и как можно скорее вновь поспешить туда, где нам раскроят череп.
Честное слово, какие бы нам ни попадались врачи, все они думали только об этом. Казалось, им от этого становится легче. Это было какое-то новое извращение.
— Вам вверила себя Франция, друзья мои, а Франция — женщина, прекраснейшая из женщин! — завел он. — Она уповает на ваш героизм. Жертва самого подлого, самого зверского насилия, она вправе требовать, чтобы ее сыны отомстили за нее, чтобы они восстановили неприкосновенность ее территории, пусть даже ценой величайших жертв. Что касается нас, мы все здесь исполним свой долг, исполняйте же и вы свой! Наша наука принадлежит вам. Она ваша! На ваше излечение будут брошены все средства. Помогите же и вы нам своей доброй волей. Я знаю: вы нам в ней не откажете. И да обретете вы возможность поскорей занять свое место в окопах рядом с вашими дорогими товарищами, свое священное место во имя нашей любимой земли. Да здравствует Франция! Вперед!