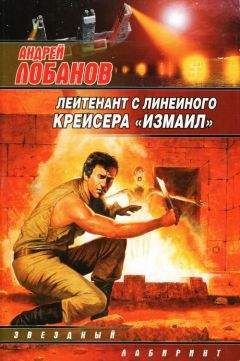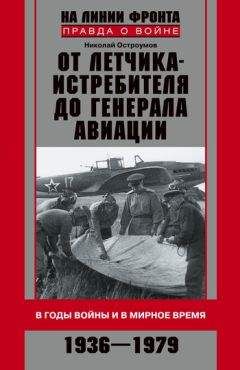Томас Манн - Королевское высочество
На короткий срок заходил туда и доктор Юбербейн, репетитор принца, и недолго беседовал со своим учеником. Слышали, как он, держа в руке часы, упоминал о господине фон Кнобельсдорфе, слышали, как он сказал, что пойдет вниз в погребок и вернется сюда за принцем. Потом он ушел. Было половина одиннадцатого.
И пока он сидел внизу и беседовал со знакомыми, потягивая пиво, — за этот час, самое большее за полтора, — в буфете произошел безобразный инцидент, та, собственно говоря, непостижимая выходка, которую он пресек, к сожалению, слишком поздно.
То, что молодежь потеряла чувство меры, следует отнести скорее за счет опьянения танцами, чем за счет вина, ибо крюшон пили очень слабый, в нем было больше газированной воды, чем шампанского. Но, принимая во внимание характер принца и принадлежность к добропорядочным буржуазным семьям остального общества, для объяснения тягостного происшествия этого недостаточно. Здесь с обеих сторон действовало другое, совершенно особое опьянение… Странно то, что Клаус-Генрих отдавал себе полный отчет в отдельных стадиях этого опьянения и все же не мог или не хотел его стряхнуть.
Он был счастлив. Он чувствовал, что его щеки пышат тем же жаром, что и у остальных, потемневшими от теплого волнения глазами обводил он присутствующих, восторженно оглядывая каждого, и взор его говорил: «Мы!» И уста его говорили то же, говорили задушевным блаженным голосом одну за другой такие фразы, где встречалось словечко «мы». «Мы сейчас сядем, мы опять пойдем танцевать, мы выпьем крюшона, мы как раз составим два каре…» Особенно часто говорил Клаус-Генрих «мы» девушке с выступающими ключицами. Он совсем позабыл о своей левой руке, она висела вдоль тела, не стесняла его, не мешала ему веселиться, он не думал о том, что ее надо прятать. Многие только сейчас увидели, какая она, и с любопытством или бессознательной гримаской глядели на *;ухую короткую руку в рукаве фрака, на маленькую, уже припачканную белую лайковую перчатку, прикрывающую левую кисть. Но так как Клаус-Генрих совсем не обращал на нее внимания, то молодежь осмелела и в этом отношении, и случалось, что во время chatne chinoise кто-нибудь без стеснения хватал его за недоразвитую руку…
Он не вырывал ее. Ему казалось, что его подхватила и несет волна благожелательства, огромного, необузданно задорного благожелательства, которое растет, само себя подогревая, что она все неудержимее подступает к нему, все крепче, все ближе напирает, торжествующе подымает на своем гребне. Что же это такое? Что-то неопределенное, неуловимое… В воздухе стояли слова, отрывистые возгласы, недоговоренные, но ярко отражающиеся во всем — в лицах, повадках, в том, что делалось и говорилось: «Ну-ка, пускай он тоже…» «Долой, долой, долой его!..» «Хватай, хватай!..» Молоденькая девушка со вздернутым носиком, пригласившая Клауса-Генриха на галоп, когда дамы выбирали себе кавалеров, уносясь с ним в танце, сказала как будто без всякой связи, но очень явственно: «Подумаешь!»
Он видел у всех в глазах веселый огонек и видел, что им доставляет удовольствие принизить его до своего уровня. Минутами в его блаженные грезы, в чувство счастья от того, что он с ними, среди них, один из них, врывалось холодное, острое ощущение, что он обманулся, что задушевное, прекрасное «мы» ввело его в заблуждение, что он все же не растворился в них, что он по-прежнему центр и предмет внимания, но не так, как всегда, а по-иному, по-нехорошему. В известной мере они были врагами, он видел это по радости разрушения, которой сверкали их глаза. Он слышал, словно издалека, и при этом его бросило в жар от испуга, как красивая девушка с большими белыми руками назвала его просто по имени, — и он ясно почувствовал, что тут это звучит совсем не так, как у доктора Юбербейна. В известном смысле ей было дано на то право, было дозволено, но неужели здесь никто не оградит его достоинства и чести, если он сам не сделает этого? Ему казалось, что они срывают с него одежду и временами в их веселье проскальзывало что-то дикое и издевательское. Долговязый белокурый юноша в пенсне крикнул, когда Клаус-Генрих столкнулся с ним во время танца, крикнул громко, так, что все слышали: «Это что такое?» Красивая девушка, оскалив зубы, с остервенением вальсировала в его объятиях, долго, до головокружения. А он, вальсируя с ней, затуманенным взором смотрел на ее ключицы, которые резко выделялись на белой шее с немного пористой кожей.
И вдруг они упали. Они кружились слишком быстро, и когда захотели остановить уносивший их неистовый вихрь, грохнулись на пол; на них споткнулась другая пара, впрочем, не совсем случайно, вернее, ее подтолкнул долговязый юноша в пенсне. Куча на полу увеличилась, и над своей головой Клаус-Генрих услышал гогот, хорошо знакомый ему по школьному двору, когда он пробовал для оживления окружающих отпустить вольную шутку, только здесь он звучал злей и развязнее…
Когда около двенадцати ночи доктор Юбербейн появился, к сожалению, несколько поздно, в дверях буфета, его глазам представилась следующая картина: его юный питомец сидел один на зеленом плюшевом диване у левой боковой стены в расстегнутом фраке, разукрашенный на небывалый лад: за вырез жилета, в петли манишки, даже за крахмальный воротничок были засунуты цветы из двух огромных китайских ваз, красовавшихся на стойке, шею обвивала золотая цепочка, которая принадлежала девушке с выступающими ключицами; а на голове в виде шляпы покачивалась плоская металлическая крышка от крюшонницы. Он бормотал: «Что вы делаете?.. Что вы делаете?..» А вся компания, взявшись за руки, с явным ликованием, хихикая, прыская со смеху и паясничая, приплясывала перед ним, двигаясь, по полукругу то вправо, то влево.
На скулах у доктора Юбербейна проступили красные пятна, казавшиеся удивительно странными и даже какими-то неправдоподобными при его зеленоватом лице.
— Прекратить, сейчас же прекратить! — крикнул он громовым голосом; и сразу наступили тишина и отрезвление.
Доктор Юбербейн среди всеобщей растерянности шагнул к принцу, выхватил цветы, сорвал цепочку, сбросил крышку, затем склонился перед Клаусом — Генрихом и сказал с серьезным лицом:
— Ваше великогерцогское высочество, осмелюсь попросить вас…
«Я осел, осел!» — твердил он, выходя из зала — Клаус-Генрих покинул бал в сопровождении доктора Юбербейна.
Вот какое тягостное происшествие случилось с Клаусом-Генрихом в тот год, когда он посещал гимназию. Как уже было сказано, никто из причастных к этому делу не проговорился, доктор Юбербейн в течение нескольких лет тоже не напоминал о нем Клаусу-Генриху — и, никем не облеченное в слова, оно было лишено плоти и тут же позабылось, во всяком случае так можно было предположить.
Городской бал состоялся еще в январе. Сезон увеселений закончился на масленице придворным балом, который давался во вторник, и большим раутом в Старом замке — ежегодными празднествами, на коих еще не присутствовал Клаус-Генрих. Затем наступила пасха, а с ней конец учебного года: экзамен на аттестат зрелости, приятная формальность, во время которой преподаватели весьма часто обращались к Клаусу-Генриху с вопросом: «Не правда ли, ваше великогерцогское высочество?» — меж тем как принц с изящной непринужденностью старался не посрамить свое исключительное положение. Особых изменений в его жизнь экзамен не внес. Еще некоторое время Клаус-Генрих прожил в столице. Но после троицы ему исполнилось восемнадцать лет, что вызвало целый комплекс торжественных действий, которые положили начало серьезному изменению его жизни и на много дней обрекли его на столь напряженное и высокое служение.
Он официально был признан совершеннолетним. Впервые после крестин был он опять центром внимания и главным действующим лицом во время торжественной церемонии. Но если тогда Клаус-Генрих мог молча, безответственно и пассивно подчиниться этикету, который опекал и направлял его, то теперь ему вменялось в обязанность, точно соблюдая неумолимые предписания, не выходя из строго определенных рамок, твердо помнить о том, что ему надлежит предстать перед публикой, драпируясь в пышную мантию торжественного ритуала, обрадовать зрителей и возвысить их над повседневностью своей прекрасной выправкой и подобающей осанкой, с виду не стоящими ему никакого труда.
Впрочем, пышная мантия в данном случае не аллегория, ибо принц предстал по сему случаю в красной мантии — выцветшей и театральной, своего рода бутафории, служившей еще его отцу и деду при их совершеннолетии и пропахшей нафталином, хотя перед тем ее несколько дней проветривали. Красная мантия в свое время входила в орденское одеяние кавалеров Гримбургского грифа, а теперь употреблялась только при торжественной церемонии для облачения вступающих в совершеннолетие принцев. Альбрехту, наследнику престола, не пришлось надеть этот фамильный предмет гардероба. Альбрехт появился, на свет зимой и потому всегда проводил день своего рождения на юге, в теплом и сухом климате, куда собирался уехать и этой осенью; в год его восемнадцатилетия состояние здоровья не позволило ему вернуться на родину, поэтому было решено заочно признать его совершеннолетним, отказавшись от торжественной церемонии.