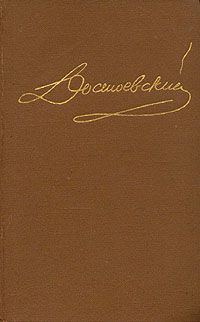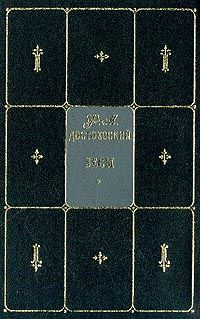Федор Достоевский - Бесы
– Comment![55] Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве de се pauvre ami[56] и эту женщину? – воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством. – Вас первого человека встречаю, лично знающего; и если только…
– Какой вздор! – отрезал инженер, весь вспыхнув. – Как вы, Липутин, прибавляете! Никак я не видал жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко… Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи?
Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему, с каким-то вызовом уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.
– Извините меня, – внушительно заметил Степан Трофимович, – я понимаю, что это дело может быть деликатнейшим…
– Никакого тут деликатнейшего дела нет, и даже это стыдно, а я не вам кричал, что «вздор», а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня, если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю… совсем не знаю!
– Я понял, понял, и если настаивал, то потому лишь, что очень люблю нашего бедного друга, notre irascible ami,[57] и всегда интересовался… Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об notre sainte Russie разные вещи, что я давно уже приписываю этот перелом в его организме – иначе назвать не хочу – какому-нибудь сильному семейному потрясению и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок…
– Я тоже совсем не знаю русского народа и… вовсе нет времени изучать! – отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи.
– Они изучают, изучают, – подхватил Липутин, – они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев самоубийства в России и вообще о причинах, учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов.
Инженер страшно взволновался.
– Это вы вовсе не имеете права, – гневно забормотал он, – я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил, совсем нечаянно. Тут не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права…
Липутин видимо наслаждался.
– Виноват-с, может быть и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли.
Инженер слушал с презрительною и бледною улыбкой. С полминуты все помолчали.
– Всё это глупо, Липутин, – проговорил наконец господин Кириллов с некоторым достоинством. – Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю чтобы говорить… Если есть убеждения, то для меня ясно… а это вы глупо сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать…
– И, может быть, прекрасно делаете, – не утерпел Степан Трофимович.
– Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, – продолжал гость горячею скороговоркой, – я четыре года видел мало людей… Я мало четыре года разговаривал и старался не встречать, для моих целей, до которых нет дела, четыре года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей, – заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, – то вовсе не с тем, что боюсь от вас доноса правительству; это нет; пожалуйста, не подумайте пустяков в этом смысле…
На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть.
– Господа, мне очень жаль, – с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович, – но я чувствую себя нездоровым и расстроенным. Извините.
– Ах, это чтоб уходить, – спохватился господин Кириллов, схватывая картуз, – это хорошо, что сказали, а то я забывчив.
Он встал и с простодушным видом подошел с протянутою рукой к Степану Трофимовичу.
– Жаль, что вы нездоровы, а я пришел.
– Желаю вам всякого у нас успеха, – ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. – Понимаю, что если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей, и – забыли Россию, то, конечно, вы на нас, коренных русаков, поневоле должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. Mais cela passera.[58] В одном только я затрудняюсь: вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!
– Как? Как это вы сказали… ах черт! – воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я все дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал «я пропал», услыхав его.
VМы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.
– Это всё оттого они так угрюмы сегодня, – ввернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и, так сказать, налету, – оттого, что с капитаном Лебядкиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стегает, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилыч в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свиданья.
– Сестру? Больную? Нагайкой? – так и вскрикнул Степан Трофимович, – точно его самого вдруг охлестнули нагайкой. – Какую сестру? Какой Лебядкин?
Давешний испуг воротился в одно мгновение.
– Лебядкин? А, это отставной капитан; прежде он только штабс-капитаном себя называл…
– Э, какое мне дело до чина! Какую сестру? Боже мой… вы говорите: Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин…
– Тот самый и есть, наш Лебядкин, вот, помните, у Виргинского?
– Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался?
– А вот и воротился, уж почти три недели и при самых особенных обстоятельствах.
– Да ведь это негодяй!
– Точно у нас и не может быть негодяя? – осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватенькими глазками Степана Трофимовича.
– Ах, боже мой, я совсем не про то… хотя, впрочем, о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать?.. Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать!
– Да всё это такие пустяки-с… то есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно затем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать, а та будто бы от него пряталась в неизвестном месте; ну а теперь привез, вот и вся история. Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я всё с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести, и за это вот господин Лебядкин, уже многие годы, будто бы с обольстителя ежегодную дань берет, в вознаграждение благородной обиды, так по крайней мере из его болтовни выходит – а по-моему, пьяные только слова-с. Просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно; полторы недели назад на босу ногу ходил, а теперь, сам видел, сотни в руках. У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее «в порядок приводит» нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занимают.
– Это всё правда? – обратился Степан Трофимович к инженеру.
– Вы очень болтаете, Липутин, – пробормотал тот гневно.
– Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось! – не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович.
Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты.
– Алексей Нилыч даже нагайку вырвали-с, изломали и в окошко выбросили, и очень поссорились, – прибавил Липутин.