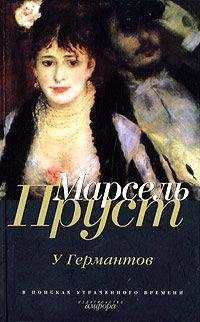Марсель Пруст - Комбре
Перешли в "кабинет", и дядя, которого явно стесняло мое присутствие, предложил ей папиросы.
— Нет, дорогой, — отвечала она, — вы же знаете, я привыкла к тем, которые мне посылает великий герцог. Я ему говорила, что вы приревнуете. — И она извлекла из портсигара папиросы с надписями золотыми буквами на иностранном языке. — Да нет, — воскликнула она внезапно, — все-таки я встречала у вас отца этого молодого человека! Он же ваш племянник? Как я могла забыть? Какая в нем доброта, какое очарование! — прибавила она со скромным и растроганным видом. Но я подумал о том, как сурово, скорее всего, обошелся с ней отец, в котором она якобы оценила очарование, — уж я-то знал и замкнутость отца, и его холодный тон, — и это несоответствие между преувеличенной благодарностью к нему и недостатком любезности с его стороны обдало меня стыдом, словно отец поступил бестактно. Позже мне показалось, что в этом состоит одно из трогательных свойств той роли, которую играют эти праздные и трудолюбивые женщины: они все подчиняют одной цели — свое великодушие, талант, припрятанные про запас мечты сентиментальной красавицы (ведь они, точно как артистки, не воплощают в жизнь эти мечты, не втискивают их в рамки обыденности), да и золото, которое обходится им недорого, и эта цель — украшать драгоценной и утонченной оправой грубую и топорно сработанную жизнь мужчины. Вот так и эта, в курительной, где дядя принимал ее, одетый по-домашнему, расточала свое нежное тело, розовое шелковое платье, жемчуга и эту элегантность, которой веяло от дружбы с великим герцогом, и едва она прикоснулась к нескольким незначащим словам моего отца, как тут же осторожно и тонко обработала их, придала им завершенность, драгоценное название, и оправила их взглядом такой чистой воды, с таким оттенком смирения и благодарности, что они превратились в чудо ювелирного искусства, в нечто "совершенно очаровательное".
— Ну ладно, будет, — сказал мне дядя, — тебе пора.
Я встал, мне неодолимо хотелось поцеловать руку даме в розовом, но я воображал, что это была бы дерзость, вроде похищения. Сердце мое билось, пока я гадал: "Поцеловать или не надо?" — но потом я вообще перестал раздумывать, иначе я бы вообще ничего не сделал. И слепым безрассудным движением, отмахнувшись от всех доводов, еще секунду тому назад подтверждавших правильность моего поступка, я поднес к губам руку, которую она мне протянула.
— Какой он милый! И уже галантен, на женщин поглядывает: весь в дядю. Он будет настоящим джентльменом, — добавила она, стиснув зубы, чтобы придать сказанному легкий британский акцент. — А нельзя ли, чтобы он как-нибудь заглянул ко мне выпить а сир of tea, как говорят наши соседи англичане? Пускай только предупредит меня утром письмецом по пневматичке[80].
Я не знал, что такое "пневматичка". Я не понимал половины слов, которые произносила дама, но боялся, что среди них прячется какой-нибудь вопрос, на который было бы невежливо не ответить, поэтому продолжал внимательно вслушиваться и от этого сильно устал.
— Нет, об этом не может быть и речи, — сказал дядя, пожимая плечами, — он занят, много работает. Он у себя в классе получает все награды, -добавил он, понизив голос, чтобы я не слышал этой лжи и не принялся ее опровергать. — Кто знает, может быть, это будет новый Виктор Гюго, знаете, или какой-нибудь Волабель[81].
— Я преклоняюсь перед людьми искусства, — подхватила дама в розовом, только они и понимают женщин... Они да немногие избранные вроде вас. Простите мое невежество, друг мой. Кто такой Волабель? Это не те тома с позолотой в застекленном книжном шкафу у вас в будуаре? Помните, вы обещали дать их мне почитать, я буду обращаться с ними очень бережно.
Дядя, ненавидевший давать книги, ничего не ответил и повел меня в переднюю. Вне себя от любви к даме в розовом, я покрыл безумными поцелуями пропахшие табаком щеки моего старенького дяди, и пока он с изрядной неловкостью, не решаясь сказать прямо, намекал мне, что ему бы, в сущности, не хотелось, чтобы я рассказывал об этом визите родителям, я объявил ему, со слезами на глазах, что память о его доброте пребудет со мной вечно и что рано или поздно придет день, когда я сумею на деле доказать ему свою благодарность. И впрямь, благодарность так прочно запечатлелась у меня в душе, что спустя два часа я сперва проронил при родителях одну — другую загадочную фразу, но мне показалось, что мои слова недостаточно внятно объясняют, каким новым величием я отныне осенён, и тогда я решил, для большей ясности, рассказать в малейших подробностях о моем недавнем визите. У меня и в мыслях не было доставить этим неприятности дяде. С какой стати, я же этого совсем не хотел. И я понятия не имел, что родители не одобрят визит, в котором я сам не видел ничего плохого. Разве не случается сплошь и рядом, что какой-нибудь друг просит нас непременно передать его извинения общей знакомой, которой он сам не может написать из-за каких-то помех, а мы пренебрегаем этой просьбой, потому что сами не придаем значения его молчанию, а значит, думаем мы, и для этой знакомой оно не может быть важным. Я, как все, воображал, что чужой мозг — это пустой и послушный сосуд, что он не способен как-то по-своему откликаться на то, чем его наполняют; я и не подозревал, что, внедряя в головы родителей известие о том, с кем я познакомился у дяди, не сумею одновременно, как мне хотелось, передать им благоприятное суждение об этом знакомстве, которое вынес я сам. К несчастью, родители, оценивая дядин поступок, опирались на совершенно иные принципы, чем те, которые я пытался им внушить. Отец и дедушка гневно с ним объяснились; мне об этом стало известно стороной. Несколько дней спустя я на улице повстречал дядю, ехавшего в открытом экипаже, и на меня нахлынули горе, благодарность, угрызения совести, в которых я так хотел бы ему признаться. Рядом с их огромностью, понял я, простой поклон покажется жалким, и дядя может подумать, что я считаю, будто мой долг перед ним сводится к банальной вежливости. Я решил воздержаться от этого бесполезного жеста и отвернулся. Дядя подумал, что я это сделал по указу родителей, и так и не простил им этого; ни с кем из нас он больше не виделся до самой смерти, а умер он годы спустя.
Поэтому я больше не входил в комнату дяди Адольфа, стоявшую теперь на запоре, и мешкал на задворках кухонной пристройки, пока Франсуаза, появившись в преддверии своего храма, не скажет: "Сейчас моя судомойка вам кофе подаст и горячую воду наверх отнесет, а я пошла к госпоже Октав", а после решал идти домой и поднимался прямо к себе в комнату читать. Судомойка была юридическим лицом, постоянно действующим институтом, которому неизменные функции сообщали определенный характер и обеспечивали преемственность, — менялось только ее преходящее обличье: дольше двух лет ни одна у нас не держалась. В год, когда мы так часто ели спаржу, судомойкой, которой обычно поручалось ее чистить, было несчастное хилое создание, и, когда мы приехали на Пасху, эта судомойка была на довольно позднем сроке беременности, так что мы даже удивлялись, зачем Франсуаза столько гоняет ее по хозяйству и с поручениями, ведь ей уже делалось трудно носить перед собой таинственную, с каждым днем все наполнявшуюся корзинку, великолепная форма которой угадывалась под просторной рабочей кофтой. Эта кофта напоминала накидки, окутывающие символические фигуры на картинах Джотто[82], — фотографические копии с этих картин подарил мне г-н Сванн. Он и открыл нам глаза на это сходство и, имея в виду нашу судомойку, спрашивал: "Как поживает "Милосердие" Джотто[83]?" Впрочем, и сама она, бедняжка, растолстевшая от беременности так, что даже лицо раздалось, даже щеки стали отвислыми и квадратными, в самом деле очень напоминала этих девственниц, дюжих и мужеподобных, скорее матрон, а не девиц, в образе которых воплощены Добродетели в Капелла дель Арена. И теперь мне ясно, что падуанские Добродетели и Пороки были похожи на нее еще в одном отношении. Образ девушки возвеличивался благодаря добавлению к нему этого символа, который она несла перед собой в животе, но сама она явно не понимала, что этот символ значит, носила его как простое и неуклюжее бремя, и лицо ее нисколько не отражало его красоты и смысла, — вот так и дюжая хозяйка, запечатленная в Капелла дель Арена под именем "Caritas", репродукция с которой висела у меня в Комбре на стене в классной комнате, воплощает эту добродетель, сама о том не догадываясь, и в ее волевом и заурядном лице, вероятно, сроду не проглядывало ни тени милосердия. В согласии с прекрасным замыслом художника она попирает ногами сокровища земные, — но все это с таким видом, будто просто мнет ногами виноград, выгоняя из него сок, или, еще вернее, будто взобралась на мешки, чтобы стать повыше; и свое пылающее сердце она протягивает Богу, или даже не протягивает, а просто передает, как кухарка передает из подпола штопор кому-то, кто просит ее об этом, свесившись из окна первого этажа. В лице у Зависти тем более, казалось бы, должна читаться некоторая зависть. Но и на этой фреске символ занимает столько места и изображен с таким реализмом, змея, свистящая у губ Зависти, такая толстая и так плотно заполняет ее широко разинутый рот, что лицевые мускулы Зависти растянулись, как у ребенка, надувающего шарик, и все ее внимание — и наше тоже — устремлено на ее губы, так что ей вообще некогда предаваться завистливым мыслям.