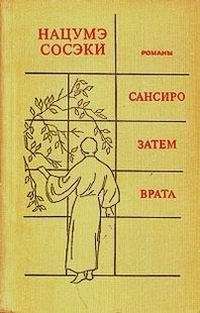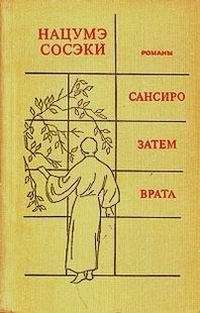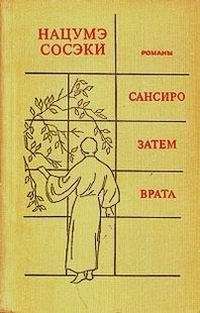Сосэки Нацумэ - Сердце
— Написать письмо ничего не стоит, только такого дела по почте не сделаешь. Как-никак, а придётся самому съездить в Токио и попросить лично...
— А отец-то как же? Ведь не известно ещё, когда тебе можно будет поехать в Токио.
— Я и не еду. Я намерен сидеть здесь, пока дело не кончится — или он выздоровеет или нет.
— Само собой. Кто ж бы мог бросить такого тяжёлого больного и уехать в Токио!
Сначала в глубине души мне стало жаль матери, ничего не знавшей. Но сейчас же вслед за этим я не мог взять в толк, почему это матери понадобилось в такую тревожную минуту поднять этот вопрос. Когда я отходил от больного отца, у меня появлялась возможность спокойно посидеть и почитать книгу. Повидимому, мать также, забыв про лежащего перед нею больного, имела возможность подумать о чём-то другом. В этот момент она проговорила:
— По правде сказать, я думаю, что если бы ты нашёл себе место, пока ещё жив отец, это его несомненно успокоило бы. Конечно, при таком состоянии, пожалуй, уже не успеть, но всё же, если бы теперь, пока он и говорит как следует и соображает хорошо, если бы можно было его, пока он жив, этим порадовать, это было бы с твоей стороны исполнением сыновнего долга по отношению к отцу.
К несчастью, моё положение было таково, что я не мог исполнить этого сыновнего долга. В результате я не написал учителю ни одной строки.
XII
Когда приехал мой старший брат, отец, лёжа в постели, читал газету. У него была привычка обычно, что бы там ни случилось, ежедневно прочитывать газету. Теперь же, с тех пор, как он слёг в постель, он от скуки ещё больше стремился к чтению. Мы с матерью не удерживали его насильно от этого, а старались по возможности делать так, как хочет больной.
— Если у вас ещё столько сил, значит, ещё ничего. Я ехал сюда в предположении, что дело совсем плохо, а выходит, что вовсе уж не так ужасно...
Так говорил брат, разговаривая с отцом. Его слишком оживлённый тон казался мне невяжущимся с обстановкой. Но и он, отойдя от отца, и оставшись со мной, был печален.
— Хорошо ли ему позволять читать газеты?
— И я так думаю, но только он и слышать не хочет, ничего не поделаешь!
Брат молча выслушал моё объяснение. Затем спросил:
— Он ещё всё хорошо понимает?
Повидимому, он полагал, что сознание отца несколько ослабело из-за болезни.
— На этот счёт всё обстоит хорошо. Я вот давеча в течение двадцати минут сидел у него, разговаривал о том, о сём, — и даже признаков расстройства речи ни малейших! В таком положении он ещё долго может продержаться.
Прибывший почти одновременно с братом муж моей сестры держался, однако гораздо более отрицательного, чем у нас, взгляда. Отец, увидев его, стал спрашивать о сестре.
— В таком положении её нельзя подвергать тряске в поезде. Если бы её понапрасну везли сюда ко мне, это бы напротив доставило мне беспокойство, — заявил он. — Лучше уж я сам, — вот поправлюсь — съезжу посмотреть на новорождённого, — прибавил он.
Когда пришло известие о смерти генерала Ноги, отец и на этот раз первым узнал это из газет.
— Какой ужас! Какой ужас!
Мы, ничего не знавшие, были перепуганы этими внезапными его словами.
— Я подумал, что, вероятно, у него уже голова не совсем в порядке, — говорил мне потом брат.
— Я тоже был очень испуган, — в таком же смысле сказал и муж сестры.
С этого времени газеты стали приносить известия, которых мы, деревенские жители, поджидали с нетерпением. Сидя у постели отца, я внимательно их прочитывал. Когда читать их здесь было некогда, я приносил их в свою комнату и прочитывал с начала до конца. Я долго не мог забыть фигуры генерала Ноги, одетого в свой военный мундир, и его супруги, по своему одеянию похожей на придворную даму.
Как раз в этот момент, когда печальная весть облетела все уголки деревни и зашевелила все эти сонные деревья и травы, я неожиданно получил телеграмму от учителя. Для нашей местности, где при виде человека, одетого в европейский костюм, начинают лаять все собаки, телеграмма казалась огромным событием. Мать с испуганным видом принёсшая телеграмму, нарочно отозвала меня в такое место, где никого не было.
— Что такое? — сказала она и, стоя рядом, ждала, пока я вскрою печать.
В краткой телеграмме было приблизительно следующее: „Хотел бы повидаться с тобой, не сможешь ли приехать?“
Я задумался.
— Несомненно, это относительно твоей просьбы о месте... — высказала предположение мать.
Я и сам подумывал, что, может быть, оно и так. Но всё-таки мне это казалось немного странным. Как бы то ни было, но мне, вызвавшему брата, мужа сестры — нельзя было бросить больного отца и уехать в Токио. Посоветовавшись с матерью, я послал ответную телеграмму о том, что приехать не могу. Я постарался по возможности короче вставить и сообщение о том, что болезнь отца принимает очень опасный характер, однако этого мне показалось мало, и в тот же день я послал по почте в подробном письме изложение всех здешних обстоятельств. Мать, пребывавшая в полной уверенности, что дело идёт только о месте, с сожалением говорила:
— Вот уж не во-время!
XIII
Моё письмо было довольно обстоятельное. И мать и я на этот раз были убеждены, что теперь от учителя что-нибудь придёт. И вдруг на второй день после отправления письма на моё имя вновь пришла телеграмма. В ней ничего не было, кроме слов: „Можешь и не приезжать“. Я показал это матери.
— По всей вероятности, он имеет в виду написать что-нибудь в письме. — Мать всё время продолжала понимать это только так, что учитель хлопочет о месте для меня. Я и сам подумывал о том же, но всё-таки, мне, знавшему учителя с его привычками, всё это казалось очень странным. „Учитель — в поисках места для меня“ — мне это казалась совершенно немыслимым.
— Так или иначе, но моё письмо ещё не могло дойти до него. Эта телеграмма, несомненно, послана до получения моего письма.
Обратившись к матери, я привёл ей это соображение, как нечто несомненное, и она, соглашаясь со мной, заметила:
— Да пожалуй! — но в сущности этот факт, конечно, ничего не мог объяснить в поступке учителя, пославшего мне телеграмму, не прочитав сначала моего письма.
Как раз в этот день наш постоянный доктор должен был привести с собою старшего врача больницы, и нам с матерью больше уже не удалось поговорить об этом деле. Врачи, поставив отцу клизму, уехали.
Отец, с тех пор как он был уложен в постель, принуждён был лёжа совершать свои естественные отправления с помощью посторонних. Всегда очень опрятному отцу сначала это было очень неприятно и противно, но вследствие своей слабости в конце концов ему пришлось с этим примириться. С течением времени, — потому ли, что сознание его ослабело, только случалось, что он испражнялся на постель, не замечая этого. Иногда матрац и простыня оказывались испачканными, — бывшие рядом морщили брови, он же сам, наоборот, относился к этому равнодушно. Впрочем, количество мочи в силу характера болезни было очень невелико, и врач всегда огорчался этим. И аппетит его постепенно падал. Временами у него появлялось желание чего-нибудь поесть. Но это чувство было у него лишь на языке, в горло же шло очень немного. У него больше не стало сил браться и за свою любимую газету. Старческие очки, лежавшие подле постели, так и не вынимались из своего чёрного футляра. Когда пришёл навестить его Саку-сан, живший в миле от нас и с детских лет бывший в дружбе с отцом, отец обратил на него свой взгляд:
— А, это ты, Саку-сан? — и сказал: — Спасибо, что пришёл. Завидую тебе — ты вот здоров! А я уж никуда!
— Вовсе нет! Тебе нельзя так говорить, — чуть что немного заболел. У тебя два сына окончили университет. Вот на меня посмотри: жена умерла, детей нет. Всего только, что живу... Здоров-то здоров, а радости ведь никакой!
Отцу ставили клизму через дня два-три после того, как заходил Саку-сан.
Отец говорил, что ему стало гораздо лучше благодаря докторам, и был очень доволен. Настроение его улучшилось настолько, что даже как будто появилась уверенность, что он останется жив. Мать, или сама поддавшись этому или же для того, чтобы придать силы больному, рассказала отцу о телеграмме учителя так, словно место, которое желал для меня отец в Токио, уже было готово. Мне, стоявшему тут же, было не по себе, но опровергать мать невозможно было, и я слушал и молчал. Больной как будто был рад этому.
— Вот и хорошо! — сказал и муж сестры.
— А что именно за место, ещё не знаешь? — спросил меня брат.
Я потерял всякое мужество опровергать их. Пробормотав что-то и самому себе непонятное, я поднялся и ушёл.
XIV
Болезнь отца, дойдя до момента, когда остаётся лишь последний толчок, как будто несколько заколебалась. Все мы каждую ночь ложились спать с мыслью: не сегодня ли последует приговор судьбы.