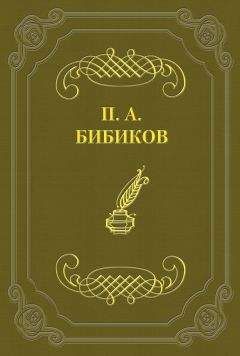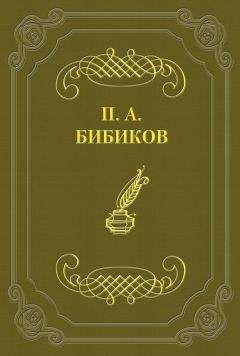Екатерина Леткова - Оборванная переписка
„Его любимые писатели: философъ Емерсонъ и Карлейль. Онъ говоритъ, что они аристократы по возвышенности своего духа и демократы по любви къ человѣчеству, по желанію блага всѣмъ. Какъ увлекательно С. говоритъ объ этомъ…“
Но бабушка, очевидно, не увлекалась этимъ. Она выписываетъ цѣлые страницы изъ Жуковскаго, нѣсколько разъ цитируетъ Монтэня въ плохомъ русскомъ переводѣ, но все это безъ своихъ замѣчаній или дополненій. Гораздо горячѣе она относится къ житейскимъ фактамъ:
„Сегодня ночью выгорѣла Рябовка. С. опять работалъ, какъ левъ, бросался прямо въ огонь, откуда и спасъ Mapтыниху съ внукой. Герой!!!“
„Уѣхалъ. Плакалъ много… Онъ мнѣ кумъ и своякъ… Даже помыселъ — большой грѣхъ… Дочь — невѣста… Умолила уѣхать… Одинъ Богъ знаетъ, какъ я…“
На этомъ страница кончается и всѣ дальнѣйшія уничтожены. Я припомнилъ, что дѣдъ Сергѣй нѣсколько разъ пріѣзжалъ изъ-за границы, но, очевидно, бабушка (или кто-нибудь другой) порвала все, что относилось къ этому времени. И я безъ колебанія рѣшилъ, что бабушка…
8 іюля.
Не окончилъ это письмо вчера, дорогая Варвара Львовна, потому что ко мнѣ въ комнату вошла Власьевна. Записки бабушки лежали передо мной. Я смутился, точно она поймала меня въ воровствѣ, и, желая скрыть мое смущеніе, сказалъ ей:
— Мнѣ нужно бы освободить этотъ ящикъ, а онъ наполненъ вотъ этими бумажками… Что это такое?
— Это покойница Марья Ивановна передъ смертью своей все читали, да рвали… А это осталось въ столѣ, возлѣ ихъ кровати… Послѣ ихъ смерти кто-то изъ людей все и свалилъ сюда… Кому они нужны?
— Надо ихъ сжечь, — сказалъ я, точно оправдываясь.
— Можно… Да чего тутъ жечьто? И сотой доли не осталось… Вы бы посмотрѣли, какіе вороха рваной бумаги мы выносили. Какъ ваша маменька Марья Ѳедрровна скончались — бабушка шибко затосковала и все читала письма какія-то, да альбомы, да тетради перебирала… Плакала она надъ ними такъ, какъ только надъ дочерью своей покойной плакала… А потомъ, ужъ какъ имъ умереть, — рвать бумагу стали и приказывали жечь… И все со слезами…
— И вы жгли?
— Вынесешь корзину, поставишь… Которыя сожгли, которыя ребятишки растаскали… Куда ихъ?
Я оставилъ начатое вамъ письмо и сталъ разспрашивать Агафью Власьевну.
Она съ рожденья у насъ въ домѣ и помнитъ даже смерть дѣдушки. Ей было тогда лѣтъ десять, но она ясно помнитъ и его наружность: старую и надутую, какъ говоритъ она, и его болѣзнь, тяжелую для всѣхъ домашнихъ. Дѣдъ лежалъ послѣдніе два года жизни разбитый параличемъ и бабушка была его невольной сдѣлкой. Дочери (моей матери) было тогда тринадцать лѣтъ, и бабушка сдала ее на руки гувернанткѣ, а сама сидѣла около больного мужа и плакала.
— Отъ скуки онѣ плакали, что ли? Не знаю. Думаю: себя жаль было… Молодыя такія, да красивыя… А баринъ-покойникъ все ругался, да плевалъ…
— А гдѣ же дѣдъ Сергѣй былъ въ это время? — спросилъ я.
Власьевна замялась немного, а потомъ, точно нехотя, отвѣтила:
— Маленькая я тогда была… Не понимала ничего. Говорили: братья поссорились между собою, и Сергѣй Иларіоновичъ въ чужія земли уѣхалъ… Очень далеко куда-то… Когда старый баринъ умерли — такъ Сергѣй-то Иларіоновичъ чуть не черезъ годъ доѣхали сюда.
Она опять замолчала. Мнѣ неловко было разспрашивать, а вмѣстѣ съ тѣмъ неудержимо хотѣлось узнать, чѣмъ такъ мучилась бабушка.
— И остался здѣсь навсегда?
— Какое!.. Пожили немного и опять уѣхали…
— Почему?
— Говорили, что Ѳедоръ Илларіоновичъ передъ смертью приказали, чтобы не пускать сюда брата… Да вѣдь никто этого не слыхалъ!.. Говорили, что бабушка сами такъ распорядились… Сергѣй Иларіоновичъ ото всего имѣнія отказались, а ихъ же и выгнали…
Вотъ какъ толковалось поведеніе бабушки!
— Онъ, кажется, былъ очень добрый? — опять спросилъ я.
— Да ужъ такой хорошій, такой добрый, что и сказать нельзя. Какъ пріѣхалъ, сейчасъ всѣхъ своихъ дворовыхъ отпустилъ на волю… Крестьянъ перевелъ на оброкъ; при выкупѣ вездѣ уступалъ пятую часть… За него и сейчасъ молятся здѣсь… И за что такого человѣка погубили!!.
— Кто погубилъ? — рѣшительно спросилъ я.
Власьевна, точно не слыша меня, — продолжала:
— Нашей сестрѣ негодяя надо… Хорошихъ мы не любимъ… Когда онъ передъ войной-то пріѣхалъ сюда, я ужъ совсѣмъ большая была, все понимала… Видѣла, какъ онъ убивался… Не съ радости въ ополченье пошелъ… Ружья въ руки не бралъ никогда и вдругъ на войну! Не съ радости… А какой красавецъ-то былъ!.. Вы изволили видѣть портретъ ихъ… Здѣсь онъ гдѣ-то у бабушки заложенъ былъ…
И Власьевна съ дѣланно равнодушнымъ видомъ выдвинула одинъ изъ многихъ ящичковъ бюро и достала оттуда плоскій футляръ… Власьевна очень ловко нажала пружинку и открыла крышку. На выцвѣтшемъ малиновомъ бархатѣ лежалъ вдѣланный въ овальную бронзовую рамку дагеротипный портретъ. Дѣдъ Сергѣй изображенъ на немъ красавцемъ блондиномъ, съ большими пушистыми усами и ясными, смѣлыми глазами. На немъ черный бархатный пиджакъ и широкій свѣтлый галстухъ, завязанный большимъ бантомъ. Довольно длинные волосы зачесаны назадъ.
— Когда это сдѣлано? — спросилъ я.
— Не знаю-съ, — все съ тѣмъ же дѣланнымъ равнодушіемъ проговорила Власьевна. — Тамъ что-то подписано.
И она вынула портретъ изъ овальнаго углубленія футляра. Подъ нимъ нимъ лежала затрепаная желтая бумажка, сложенная въ нѣсколько разъ и сплюснутая портретомъ. Власьевна точно не видала ее, а указала мнѣ на надпись на обратной сторонѣ дагеротипа. По серизовому атласу было написано чернилами: „Годъ 1853. Маія 12-го дня. Переживетъ ли это ничтожное изображеніе нашу дружбу?“
Дагеротипъ выцвѣлъ, поблѣднѣлъ, но изъ рамки смотрятъ все еще живые, полные мысли глаза, и все лицо свѣтится радостью жизни… А что осталось отъ этого лица тамъ, подъ камнемъ у церкви? А дружба? Гдѣ она? Въ чемъ ея слѣды или присутствіе? Я такъ былъ взволнованъ, что захлопнулъ крышку бюро, отпустилъ Агафью Власьевну и хотѣлъ пойти побродить… Но мысль о бабушкѣ не давала мнѣ покоя. И я вернулся, вынулъ сложенную бумажку изъ портрета и прочелъ тамъ:
„Я убила тебя… Любила только тебя одного всю жизнь и убила… Грѣхъ было любить и я солгала тебѣ… И теперь не знаю: какой грѣхъ тяжче: преступная любовь или добродѣтель, сгубившая тебя?“
Всю ночь я не спалъ. Жизнь, съ ея быстро несущимися днями и ночами, съ ея мимолетными радостями и печалями, опять показалась мнѣ такой маленькой и вмѣстѣ съ тѣмъ такой загадочной…
С. Р.
XLI
Петербургъ. 15 іюня
Я не люблю, когда говорятъ о чьей нибудь любовной исторіи, потому что это всегда имѣетъ характеръ сплетни, осужденія, залѣзанія въ чужую душу, обыска чужого сердца. Въ вашемъ разсказѣ о бабушкѣ ничего этого нѣтъ. Она ушла навсегда и внѣ всякихъ осужденій и сплетенъ. И ея несчастная любовь не выходитъ у меня изъ головы. А главное, меня мучитъ мысль: неужели то, что называютъ «жизнью», т. е. день за днемъ, съ маленькими житейскими заботами и мелочами, можетъ вытравить въ человѣкѣ все, кромѣ думъ о матеріальныхъ благахъ? Нѣтъ, не можетъ быть! Я назвала бы вамъ очень много стариковъ, которые до самой смерти сохраняютъ полетъ мысли и ясность ума, какому могутъ позавидовать и молодые. Я не говорю о Гладстонѣ, о Дарвинѣ, о такихъ великанахъ; нѣтъ, среди окружающихъ меня я могу назвать вамъ много именъ… Неужели это удѣлъ женщины? Гдѣ же та «большая душа», о которой вы говорили? И вы помимо того, что бабушка просто заинтересовала меня, попали мнѣ въ больное мѣсто. Мнѣ постоянно больно видѣть, какъ женщина (въ большинствѣ случаевъ съ помощью мужчины) ограничиваетъ свое существованіе, какъ она, по собственному желанію, низводитъ себя на низкій уровень и тратится на мелочи. Молодыя женщины, а чаще всего дѣвушки, рвутся къ свѣту, къ знанію, къ свободѣ; у нихъ кипятъ идеи, стремленія… У большинства пожилыхъ женщинъ все это исчезло куда-то, матеріальный комфортъ и душевное спокойствіе — вотъ ихъ идеалъ. Идей никакихъ, однѣ домашнія заботы. Я часто увѣряла себя, что это мое заблужденіе или придирки. Я смотрѣла, напримѣръ, на сестру моего мужа, желала въ ней найти что-нибудь, кромѣ хищническихъ инстинктовъ и самого откровеннаго себялюбія. И когда она начинала говорить съ озлобленіемъ «о передовыхъ женщинахъ», о дѣятельницахъ, о томъ, что женщинѣ не нужно ни особеннаго образованія, ни дѣла, а только семья — мнѣ становилось жаль ее; думалось, что навѣрное въ молодости волновало ее что-нибудь повыше того, въ чемъ она живетъ теперь… И я умолкала, а она считала меня побѣжденной.
Очень часто, когда я говорю о томъ, что не о хлѣбѣ единомъ живъ человѣкъ — мнѣ говорятъ:
— Когда мужъ даетъ вамъ большія средства, конечно, о хлѣбѣ заботиться нечего.
Кругомъ меня женщины живутъ только вещами и въ вещахъ, волнуются матеріальными волненіями, радуются только житейскимъ благамъ. И когда я вижу женщину, исповѣдующую другія заповѣди и охраняющую своя святая святыхъ, вижу, какъ она до старости пронесла свои идеи и и не разроняла ихъ по дорогѣ — я примиряюсь и съ жизньго, и со старостью. Вашъ разсказъ о бабушкѣ. заставитъ меня еще чаще смотрѣть въ себя, а не на себя. Мнѣ никогда не забыть его. Я вѣрю вамъ, что въ ней и слѣда не осталось ни Монтэня, ни Карлейля — ничего, чѣмъ она волновалась и жила когда-то. Неужели, если прошла любовь — то прошли и лучшія стремленія. Нѣтъ! Такъ невозможно жить.