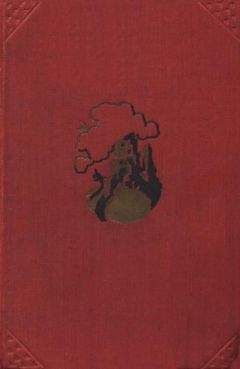Ахим Арним - Немецкая романтическая повесть. Том II
Когда Белла проснулась, протерла свои большие глаза, спросила испуганно, где она находится, и готова была уже разрыдаться, — только тогда мог успокоиться добрый старик. Он прочел над ней Ave Maria, слова которой она благочестиво повторила за ним, затем сказал ей, что она должна запастись терпением и что совесть не позволяет ему провести ее к эрцгерцогу; но он позаботится о ней, только она должна указать ему, где можно было бы устроить ее, так как сам он никого не знает. Его прежний служка жил у бедных родственников и приходил по утрам и по вечерам, чтобы исполнять разные его поручения; если она согласна носить его платье, то в костюме мальчика могла бы оказывать ему те же услуги, потому что чваные придворные лакеи плохо ему прислуживают. Белла согласилась на все, что предложил ей старик, ибо таким образом ей представлялась возможность переодетою видеть эрцгерцога, а это было ее единственное желание; она поспешила облачиться в новую ливрею, но совершенно не знала, как надеваются эти штаны и камзол со всеми своими прорезями, петлями и крючками, так что престарелый прелат, смеясь, принужден был помочь ей. Она сказала ему, что намерена возвратиться в загородный дом и там укрыться; своей коже она умеет придать такой смуглый оттенок посредством разных растительных соков, что никто не примет ее за девушку. Адриан мог оценить мудрость ее народа, сказывавшуюся во всех ее словах, но он все еще продолжал опасаться какого-нибудь предательства и вздохнул облегченно, лишь когда увидел, как, выйдя из замка, она пошла через площадь, где мальчишки, гонявшие обручи, стали звать ее, думая, что это их старый товарищ, прежний служка Адриана.
Тем окончились его страхи на сей день; теперь он поспешил к эрцгерцогу и, застав его еще спящим после бессонной ночи, стал трясти его за плечо и произнес ему длинное назидание о лености и о том, что в ней, как в бездонном море, добродетели негде бросить якорь и спастись от гибели. С вечера он не хотел его беспокоить, ибо полуночные часы — лучшее время для сна, когда один час более ценен для тела и души, чем два последующих; теперь же, когда солнце светит ему прямо в ноздри, храпеть в высшей степени неприлично.
Он мог бы часами продолжать свою речь, а герцог только поворачивался с одного бока на другой, не думая просыпаться, так что почтенный старец, наконец, поднялся в недовольстве и стал приводить Ценрио доказательства, что предполагаемое сочинение Петра Ломбарда, найденное им в Бёйке, либо подложно, либо относится к тому периоду жизни философа, когда тот уже расстался с своими идеями и утратил свой гений. Ценрио притворился крайне изумленным; в душе же плут потешался, что это книжное барахло вызвало столько ученых изысканий; затем он спросил Адриана о замечательном сочетании светил, которое тот наблюдал в Бёйке, и Адриан разъяснил ему, что в ту ночь был зачат могучий властитель на Востоке, но где именно — он не может узнать. Ценрио подумал про себя, что и в этом отношении он гораздо лучше осведомлен, хотя некоторые вещи путались у него в голове и ему не удавалось срифмовать их друг с другом, может быть, потому, что природа хотела в данном случае ограничиться только ассонансами; не мог он разгадать, где же осталась голем Белла, не знал он также о возвращении Беллы к старой госпоже фон Брака после того, как она покинута была ею в объятиях эрцгерцога. Все это были вещи, которые за недостатком времени и из-за постоянного присутствия свидетелей он еще не имел возможности обсудить с эрцгерцогом.
После того как старше оставил комнату со словами: любопытно, любопытно! дорого бы я дал, чтобы открыть, кто такое это чудесное дитя, — Ценрио обратился с расспросами к эрцгерцогу, который немало изумился тому, что он даже в пылу наслаждения не переставал тосковать по какой-то другой, утраченной Белле.
— Конечно, утрачена та, которую я любил, которая у врат моей жизни, как нежная заря, исчезла в лучах солнца; вместо ее божественного образа я обнимал земное создание, которое возбуждает во мне низменную страсть, но отвращает мое сердце. Ах, почему на меня устремлены глаза миллионов! Был бы я бедным пилигримом, странствовал бы по миру, ветры внимали бы моим жалобным песням, и пустился бы я в поиски за ней, которой принадлежу навеки, а не нашел бы ее — уединился бы со своей печалью в тихих часовнях Монсерата! Вот о чем я мечтаю, Ценрио, и раз не могу достигнуть этого, то и не выполню многого, чего мир ждет от меня.
Ценрио принадлежал к разряду превратно мыслящих придворных наставников, которые хотели бы уберечь, как от сквозняка, от всякой серьезной мысли вверенную им молодую жизнь. Они считают, что воспитывать следует в удовольствиях, но сколь мало удовольствий доступно принцу и от сколь многого должен он отрекаться! Шутка остается за дверью, серьезность же, как старый домовой, господствует в замке. Ценрио обещал эрцгерцогу собрать в Бёйке все сведения, необходимые для разрешения загадки, и спешно отправился туда.
Тем временем господин Корнелий явился в замок, приказал доложить о себе эрцгерцогу, и последний принял его, так как обещал голему, для того чтобы упрочить связь с ней, дать какое-нибудь назначение малышу, ежели тот представит свидетельство от многих особ своего сословия в том, что он действительно — человек.
Наш паренек бегал уже все утро по городу, собирая от дворян письменные подтверждения того, что он — человек, причем, однако, к своему удивлению видел, что у всех в большей или меньшей степени тут оставались сомнения на его счет. Свидетельства всегда выдавались ему только в условной форме. Так, барон Вандерлоо сказал о нем: сидя за столом, он, правда, может сойти за порядочного человека, но только он никогда не должен вставать из-за стола, ввиду несоразмерной короткости своих ног, которая придает ему вид одетой в платье таксы. Господин фон Мейлен заявил, что он был бы во всех отношениях безупречен, но только его мать, должно быть, обладала чрезмерно жаркою утробой, поэтому и случилось, что он, как слишком перепеченный и засушенный хлеб, потрескался и съежился. Граф Эгмонт написал в виде циркуляра: поскольку во время военных действий иногда бывает чрезвычайно важно скрыть от врага свои силы, то господин Корнелий мог бы с немалой пользой быть помещен в карман любого бравого солдата и оттуда, положив свой мушкет на пуговицу штанины, спугивать неприятеля совершенно неожиданными выстрелами из штанов солдата.
Такие и подобные отзывы с любезными пожеланиями успеха, выданные ему каждым, к кому он обращался, представил теперь малыш эрцгерцогу, который прочел их, еле удерживаясь от смеха, и затем обещал дать ему приличествующее назначение в новом своем полку, для которого он придумал особого рода каски, хорошо слышимые благодаря приделанным к ним бубенчикам и хорошо видимые благодаря двум длинным ушам по бокам их. Малыш был в полном восторге, что близится исполнение его желаний; шута он видел один единственный раз, только в Бёйке, и тогда принял его за военную персону и померился с ним оружием. Поэтому, когда эрцгерцог осведомился о его молодой супруге и пожелал с ней познакомиться, он почтительно пригласил его к себе. Торжественный прием в доме господина Корнелия был назначен на тот же день. Несмотря на неудовлетворенность свою последней ночью, несмотря на подозрение, что какой-то волшебный призрак потешался его любовью, эрцгерцог чувствовал непреодолимое влечение к этому голему. То было стремление иного рода, чем чаял он, но все же он не мог отрицать его, ни побороть в себе; для него было так же очевидно, что это его чувство требовало чего-то определенного, чего-то осуществимого, тогда как то, другое чувство, как греза, растворялось в бесконечности; и в этом душевном его разладе то бесплотное, то неуловимое, что питало его высокое, блаженное чувство, казалось ему пустым и презренным рядом с этой торжествующей, победу чувственностью.
Печально брела в та утро Белла к загородному дому, надеясь незаметно пробраться в него через известные ей одной отверстия в садовой ограде. Но близ кладбища повстречался ей бедный Медвежья шкура, который несколько замешкался на могиле, пересчитывая заработанные свои деньги; при виде Беллы он не мог сдержать слезы, схватил ее за руку и спросил, как поживает его милая, молодая госпожа, он-то ведь сразу заметил, что ее оттеснила та фальшивая кукла — ее копия, но из боязни лишиться службы не посмел ничего сказать. Белла просила его молчать об этом: после приема, оказанного ей по возвращении домой, она почувствовала такое непреодолимое отвращение к Браке, к Корнелию и ко всем, что впредь ни за что не поступится своей княжеской независимостью для городской жизни со всеми ее принуждениями; теперь она опять заживет в своем старом доме, пока не увидит своего народа свободным. Затем она спросила его, как все произошло и почему он не появился накануне вечером. Тогда он рассказал ей, что фальшивая Белла его выставила, чтобы позднее ввести эрцгерцога через заднюю дверь. При этих словах Белла заткнула рот Медвежьей шкуре; она не хотела дальше ничего слушать, раз эта гадкая обманщица отняла у нее последнее земное утешение — любовь эрцгерцога. Скорбь охватила ее душу, и только когда слезы хлынули у нее из глаз, она почувствовала, словно камень свалился у нее с сердца; она обняла Медвежью шкуру и больше часу не отпускала его от себя; счастье, что мало было прохожих, вето бы эта сцена обратила на себя внимание. Медвежья шкура скоро вновь принялся высчитывать в уме, сколько ему осталось еще служить, предоставив Белле лить на него слезы, подобно мельнице, которой нет дела до красоты водопада, лишь бы он двигал ее колесо. В конце концов, однако, спохватившись, что запоздает домой, и не находя никакого способа высвободиться, он раздавил упавшую с соседнего дерева подточенную червем сливу и сказал: