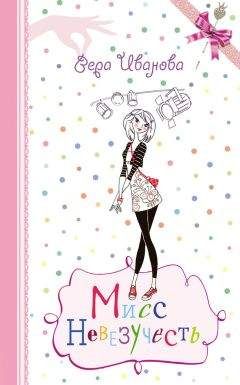Гюстав Флобер - Мемуары безумца
* * *
Сила — это качество, которым наслаждаются, теряя его. Начав писать, я хотел дать точную копию того, что думал, чувствовал, а этого ни разу не случилось. Настолько человек обманывает сам себя. Вы смотрите в зеркало, но образ ваш искажен. Короче говоря, писать правдиво невозможно. Мы себя приукрашиваем, подшучиваем над собой, жеманимся. Десять противоположных мыслей возникают порой, когда пишешь одну только фразу. Поторопитесь — все изуродуете, помедлите — запутаетесь и остынете к работе.
* * *
Меланхолия — наслаждение искусственное. Сколько людей уединяется, чтобы усугубить печаль, лить слезы на берегу ручья, намеренно прихватив с собой чувствительную книгу! Мы все время сочиняем себя и пересочиняем вновь.
* * *
Временами хочется быть атлетом, а другой раз — женщиной. В первом случае — это говорящие мускулы, во втором — плоть, любовно вздыхающая, обнимающая.
* * *
Вкус — вот чего мне недостает в первую очередь. Я хочу высказать все. Я схватываю и понимаю целостно, в синтезе, не замечая деталей, мне понятно tutti,[72] то, что остро или рельефно, и больше ничего. Ткань, структура ускользают; у меня шершавые руки, и я не ощущаю бархатистость материи, но восхищен ее блеском. Полутонов я не различаю; вот почему мне нравится пряное, острое или сладкое, сочное тоже, но исключительно нежное. Прежде всего — цвет, образ. Мне недостает лаконичности, а еще больше — точности.
В моих сочинениях нет единства, движения, нет даже (два слова неразборчивы), и воображения нет, и чувства ритма ни малейшего. Вот чего мне недостает — и стиль мой многословный, напыщенный.
* * *
Драматическое искусство — это геометрия, выражающая себя в музыке. Возвышенное у Корнеля[73] и Шекспира представляется мне прямоугольником; мысль завершается прямыми углами.
* * *
Монтень — вкуснейший из всех писателей. В его фразах — сок и мякоть плода.
* * *
Когда прочтешь маркиза де Сада и очнешься от восхищения, задаешься вопросом: а если все именно так и то, чему он учит, — правда? Это потому, что вы не можете противиться его гипотезе, заставляющей мечтать о безграничной власти и великолепных наслаждениях.
* * *
Мы не возмущаемся, когда грызутся щенки, дерутся мальчишки, паук пожирает муху, мы, не задумываясь, убиваем насекомое. Поднимитесь на башню, достаточно высокую, чтобы не слышать шума, чтобы люди казались крошечными: если бы оттуда вы увидели, как один человек убивает другого, то не слишком бы взволновались, наверняка меньше, чем если бы кровь брызнула на вас. Вообразите башню, более высокую, и безразличие, более невозмутимое: гиганта, смотрящего на муравьев, песчинку у подножия пирамиды, и представьте, как муравьи убивают друг друга, взлетает пылинка — какое дело до них гиганту и пирамиде? Теперь вы можете сравнить природу, Бога, одним словом, бесконечный разум с этим гигантом в сто футов ростом, с пирамидой в сто тысяч футов высотой — потом подумайте о мере наших преступлений и добродетелей, нашего величия и ничтожества.
* * *
Насмешка — самая могущественная и самая страшная вещь, она неотразима: нет такого суда, чтобы призвать ее к ответу ни по здравому смыслу, ни в сердцах. То, что осмеяно, — мертво. Смеющийся человек сильнее вооруженного шпагой. Вольтер был королем своего века, потому что умел смеяться, именно в этом был весь его талант. В этом заключалось все.
* * *
Веселье — квинтэссенция ума. Умный человек — веселый, ироничный, скептик, знающий жизнь. Философия и математика — это разум, так сказать, сила и судьба идей, поэт — тело и слезы. Насмешник — пылающий костер.
* * *
Самая безнравственная театральная пьеса — «Мизантроп», и в этом ее особая прелесть.
* * *
О, плоть, плоть! Демон, что является вновь и вновь, вырывая книгу из рук, веселье из сердца, делает мрачным, жестоким, эгоистичным et sui gaudens.[74] Гонишь его — он возвращается, подчиняешься ему в упоении, бросаешься к нему, отдаешься ему с раздувшимися ноздрями, напряженными мускулами, бьющимся сердцем, — и приходишь в себя с влажными глазами, измученный, в досаде. В этом жизнь — надежда и разочарование.
* * *
Маркиз де Сад забыл о двух вещах: об антропофагии и хищниках, а это значит, что великие люди также ограниченны, ведь прежде всего он должен был осмеять порок, чего не сделал, и в том его ошибка.
ПАСТИШ[75]
То было в сумерки. Асур возлежал на пурпурном ложе. Аромат цветущих апельсиновых деревьев, запах моря, тысячи угасающих звуков неслись к нему. Еще он слышал, как в глубине двора, где жили рабы, повернувшись к уходящему за горы солнцу, рычали в клетках львы и тигры, и пена из открытых пастей летела на прутья клеток. Они ревели, ведь там, в глубоком сумраке под алоэ, их ждали самки. Асур тоже рычал, и ноздри его раздувались, заранее предвкушая запах пыток, полнивших радостью его сердце. Он поднялся, вышел на опоясанный золотом балкон самой высокой башни и, опершись на перила, посмотрел вокруг. Взгляд его скользил, подобно наконечнику стрелы, выбирающей цель. Было душно, Асур задыхался, томился жаждой, хотел крови. Иссохшие головы окаймляли балкон. По ночам орлы и коршуны слетались сюда и выклевывали плоть из черепов. Он слышал шум их крыльев под крышей, когда под ним хрустела и гнулась, как ива, спина наложницы, а он до последней капли пил горячую кровь из белой руки.
Что станет делать он сейчас, еще не очнувшись от ночной оргии? Отдастся фаворитам или повелит магам курить ему фимиам? Асур медленно сошел вниз, казалось, незримая фея ведет его за руку. Фея радостей адской бездны, парящая над полями сражений, источающая аромат роз и человеческой плоти, фея в белом запятнанном платье, с крепкими стальными клыками, объятия ее душат, ладони ласкают. Она вела его в галереи. В хрустальных светильниках еще горели огни, шептали струи фонтана, на полу валялись мертвые и пьяные, слышались вздохи, руки безвольно бились о землю. Все было убрано по мановению бровей. Томные невольницы расплескали из сосудов чарующие благовония, расправили прозрачный розовый полог, раскинули ложа, где смягчается и замирает от поцелуев сердце мужчины. Вот приводят заплаканных, одетых в черное женщин с розами в волосах. Нагие фавориты вышли из потайной двери. Глаза Асура смеялись, он целовал их, позволял ласкать себя. Слышно было, как рыдают три сестры, как царапают дверь когти; принесли яд…[76]
* * *
Ночь, 2 января 1841 года, написано по возвращении с бала
Как давно это было написано, Боже мой![77] То было в воскресенье после полудня, в час раздражения и скуки, измученный и болезнью и выздоровлением, я бросил перо и ушел. Я отправился пешком обедать в Девиль.[78] На бульваре мы с Амаром[79] встретили Балле;[80] я был циничен и взбешен.
Сколько я пережил с тех пор и как много заключено между последней строкой и той, что начата здесь! Подготовка к экзамену, я сдал его, наконец. Попытаюсь обобщить события пяти месяцев, завершивших то, что зовется детством, и положивших начало чему- то без названия — жизни человека двадцати лет. Это (для меня особенно) ни юность, ни зрелость, ни старость; это все вместе, все выпукло и рельефно. Даже в спокойных обстоятельствах мой физический и моральный склад — это эклектика, где клокочет фантазия и реальность.
Мысленно возвращаясь в милое мое путешествие[81] и приходя в себя, спрашиваю, остался ли я прежним: тот ли человек бродил у залива Сагонь,[82] что пишет здесь за столом зимней ночью, теплой и дождливой, сырой и туманной?
О Италия, Испания, Турция! Сегодня суббота — и тогда была суббота, такой же день…,[83] комната, похожая на мою, низкая, с красными обоями, тот же час — я только что слышал, как часы пробили половину третьего. Говорят, время бежит, как тень. То, подобно призраку, оно ускользает из рук, то, как привидение, давит на грудь.
Я был на балу, что делать там? Как скучны светские развлечения, а то, что не скучно, — всего глупее. Я видел там девочек в голубых и белых платьях, с плечами в прыщах, с острыми лопатками, с личиками кроликов, ласок, лисиц, собак, кошек, совершенных дурочек — и все это лепетало, тараторило, плясало и потело.
Меня окружала толпа народа, более пустая, чем топот башмаков по мостовой, а я старался не отличаться от всех — те же слова, такой же костюм; меня забросали глупыми вопросами, ответы были им под стать. Они хотели, чтобы я танцевал! Славные детки! Приятные юные особы! Как бы я хотел развлекаться подобно им!
У меня есть слабость — иногда подхожу к шкафу у изголовья кровати, смотрю на свой полотняный костюм и обыскиваю карманы: «мы сами себя обманываем», говорит Монтень.[84]