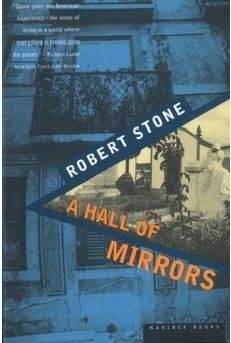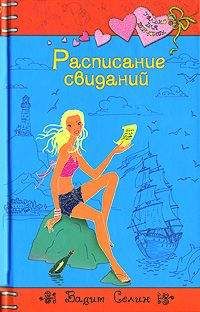Роберт Стоун - В зеркалах
— Стукач, — произнес рыжий.
Сидевшие за столом замерли, потом молча поднялись и, забрав сэндвичи и бутылки, отошли к серой стене.
— Стукач, — повторил рыжий. — Ты стучал в «Анголе» и здесь стучишь, да?
— Мы с вами незнакомы, — сказал Рейнхарт, кладя сэндвич на стол. — Вы меня с кем-то путаете.
За смежным столом белесый юнец с вытатуированным сердцем на руке обернулся и замотал головой, прожевывая сэндвич.
— Это не он, Мамбрей, — сказал он, проглотив еду. — То другой.
— Ты же сказал, что он, — произнес Мамбрей, не отрывая глаз от Рейнхарта. — Ты же на него показал.
— Ага, — сказал малый. — Того типа зовут Тибодё. Он еще на лестнице шмыгнул назад. Это не тот тип.
— А тебя как зовут? — спросил Мамбрей.
— Я Рейнхарт.
— Его Рейнхартом зовут, — сказал белесый паренек, передвигаясь с недоеденным сандвичем за стол Рейнхарта. — Я его знал в «Анголе». Он никакой не стукач.
Люди, евшие у стены, вернулись и сели к столу. Мамбрей вышел в коридор и оглядел лестницу снизу доверху.
— Ну как, Рейнхарт? — спросил белесый паренек. — Давно вышел?
— Я там не был, — сказал Рейнхарт. — Пока что. Меня сюда из Миссии послали.
— Брось, — сказал паренек, — разве мы не встречались в «Анголе»?
— Нет.
— Я удивляюсь. Ты вроде не похож на ханыгу.
— Однако это так.
— Ты ведь янки, верно?
— Жил когда-то в Нью-Йорке.
— А, в Нью-Йорке! Там до черта блатных, верно? И банды все время дерутся, стенка на стенку, и друг друга подкалывают перышком, да?
— Да, — сказал Рейнхарт. — Все время.
— Я сидел там с одним на исправительной ферме, он из Нью-Йорка. Говорил, у них все время это мочилово, говорил, что сам в этом варился. Вот я и хотел проверить, правда ли.
— Наверное, он правду тебе сказал.
— Дерутся, режут друг друга все время, а?
— Это правда.
— И тебе случалось?
— Да нет, все некогда было, — сказал Рейнхарт. — Хотел, да дел всегда невпроворот.
— Небось больше по бабам, да?
— Это да, — сказал Рейнхарт. — Это точно.
— Меня зовут Дорнберри, — сказал паренек. — А кличка моя — Сынок. Я пробирался в Нью-Йорк, когда меня сцапала полиция. С которым я сидел, так он говорил: мое счастье, что я туда не попал. Он говорил, у меня кишка тонка и мне не вытянуть. Они б меня сразу пришили.
— Может, это их счастье, что ты туда не попал.
— Может, и правда, а? Ты что, только сегодня начал?
— Первый день, — сказал Рейнхарт. — А ты?
— Ну, я-то уж скоро месяц. Дождусь, пока выйдет мой срок — один день за два. Тогда подамся в Нью-Йорк.
— Они тут здорово носятся с этим перевоспитанием, верно? Интересно, с какой это радости?
— Так это же фабрика М. Т. Бингемона, — сказал Дорнберри. — Слыхал про такого?
— Читал у Луэллы Парсонс[27], — ответил Рейнхарт. — Он, кажется, женат на какой-то киноактрисе? Глория — как ее? Я думал, он делает арахисовое масло.
— Масло, — с добродушной снисходительностью сказал Дорнберри, — арахисовое масло — это одна кроха из Бингемоновых дел. Он все что хошь делает и всем до капли владеет. Говорят, эту фабрику он открыл специально, чтоб таким, как мы, помочь. Тебе еще не рассказывали? И ничего про План М. Т. Бингемона ты не слыхал?
— Нет, — сказал Рейнхарт.
— Ну так они еще тебе задурят голову, когда пойдешь в кассу. Там один дядька тебя будет вербовать в Легион.
— В Иностранный легион?
— Ха, — сказал Дорнберри. — Иностранный! Нет, брат, это у них такая штука, куда они всех хотят затащить, там разные лекции да военная муштра и всякая белиберда. Это входит в перевоспитание. Патриотическая штука.
— Патриотическая? — переспросил Рейнхарт. — Должно быть, это занятно.
— По мне, муть все это. Но они всегда записывают в Легион тех, кто из тюряги вышел. Алкашей — не знаю. Говорят, в России так же делается, и если хотим победить в войне, надо и здесь так делать. Так они говорят.
— Дело серьезное, — заметил Рейнхарт. — Это тоже входит в План М. Т. Бингемона?
— Точно. Ты сам прочтешь. Тебе дадут книжечку, там все есть.
— Здесь все на перевоспитании? Вся смена?
— Почти. Тут, понимаешь, три сорта субчиков. Одни — те, что вышли из «Анголы» и исправительных лагерей, вроде меня. Потом — алкаши-подзаборники вроде тебя. И еще психи после сумасшедшего дома — таких они много сюда берут, если не буйные.
— А как насчет баб? — спросил Рейнхарт. — Он их тоже берет на работу?
— Ну да, берет, но нам их не видать, только если уволишься, да, может, случайно где столкнешься. Они где-то внизу, а что они там делают, понятия не имею. Пойдешь в коридор, увидишь — там даже дверь на лестницу зарешечена, чтоб ты носу туда не совал.
— Ну и ну, — сказал Рейнхарт.
Дорнберри пошел к окошку в кухню выпрашивать еще сэндвич; Рейнхарт встал и решил осмотреть столовую. Сидевшие за столами люди в белом вскидывали на него глаза, когда он проходил мимо. Рейнхарт приветливо кивал.
В левой стене он увидел выкрашенную красной краской дверку с эмблемой Бинга.
Он открыл ее; в зияющей темной шахте подрагивали тросы. Он заглянул вниз — на него пахнуло запахом машинного масла, и он увидел крышу ползущего вверх маленького лифта.
— Объедки туда не бросай, — сказал кто-то за его спиной. — На то есть мусорные ведра.
— Не буду, — отозвался Рейнхарт. — Ей-богу, не буду.
Он опять нагнулся, провожая глазами исчезавший вверху лифт, потом взглянул вниз. Этажом ниже в такой же раскрытой дверце, словно в рамке, стояла светловолосая девушка; на правой ее щеке виднелись шрамы, очевидно после какой-то операции. Она широко открытыми глазами смотрела вслед удалявшемуся лифту. Опуская глаза, она встретилась взглядом с Рейнхартом и улыбнулась.
— Любите кататься на лифте? — спросил Рейнхарт.
— Кататься? — быстро нахмурилась девушка. — Откуда вы взялись?
— С гор, — крикнул Рейнхарт в шахту. — С крыши мира.
— Там небось нет лифтов?
— А нам лифты ни к чему. Мы никогда не спускаемся вниз.
— Но сейчас-то вы внизу, правда?
— Сейчас да.
— Ну так вы просто с ума сойдете от лифтов. Это сказка.
Дверка захлопнулась, и в шахте снова стало темно.
Значит, и верно, здесь есть женщины, подумал Рейнхарт. А эта-то откуда? Не из «Анголы». Может, из Мандевиллской тюрьмы? Или тоже подзаборница? Нехорошие у нее эти шрамы.
Между столами прошел мистер Юбенкс, помахивая рукой, и все потянулись за ним назад, к конвейерам. Прозвенел звонок, заработали насосы, поплыли пластмассовые бутыли. Рейнхарт торопливо переправил сбившиеся в кучу бутыли в машину для наклеек, и опять все пошло своим чередом.
У дальнего края цистерны свирепо рыскал глазами рыжий в поисках своего стукача; рядом с ним стоял паренек по имени Дорнберри. В конце конвейера, где работал Рейнхарт, появился новенький — старик с лицом цвета снятого молока: он устанавливал бутыли в картонные коробки и грузил на платформу во внешнем проходе, откуда их забирали подъемники. Старик был хилый, узкоплечий, с лиловыми мешочками под глазами, с бледной, в красноватых прожилках кожей и казался совсем немощным. Всякий раз, взваливая коробку на плечо он издавал натужное «хек», потом долго с присвистом втягивал в себя воздух; вскоре Рейнхарт уже с тягостным раздражением стал ждать, когда старик возьмется за следующую коробку. Немного погодя Рейнхарт спросил старика, не хочет ли он поменяться работой.
— Ха, — шепотом сказал старик, озираясь и как бы ставя Рейнхарта на место торжествующей ухмылкой, раздвинувшей все складки давно не мытого лица. — Черта с два.
На этом разговор и кончился. Громкоговоритель помалкивал, хотя молодые люди все так же стояли в окне и так же пытливо глазели на работавших, как и восемь часов назад.
Рейнхарт отдался ленивому скольжению мыслей о последних днях — автострада, Фарли, гостиница «Сильфиды». Бедная Наташа, увы… как там она… что она… Что она там поделывает… В Уингдейле.
Уингдейл. Какая риторика в названиях, думал он, и какие названия дают местам. Куда ни подашься, везде для тебя название, чтобы произносить его с тихим почтением на кончике языка — Уингдейл, Маттьюэн, Рокленд, Даннемора, Мандевилл, Ангола. И в одном, в Анголе, заключено все: жара, тростниково-сладкий запах, потные негры… Мандевилл, Уингдейл… воющий ужас, ангельские перья, дрожь…[28] Уингдейл! Бедная Наташа!
И эта девушка в шахте лифта, шут ее знает, кто она такая. Со шрамами. Жаль, подумал он; глаза у нее хороши. Занятная — бойка на язык девка, видно, тертая. Что-то в ней есть, не забыть бы как-нибудь опять заглянуть в шахту.
Вот еще один пункт в Списке Давно Прошедшего: «Чего Я Больше Не Делаю». Сколько у него не было женщины? Месяцы, наверное. Если и было у него что-то с Мейбл, или Полой, или Чаконой, или с кем-то, это нельзя считать, потому что если и было, то он не помнил. Нездоровая картина, размышлял он. Кошмарная.