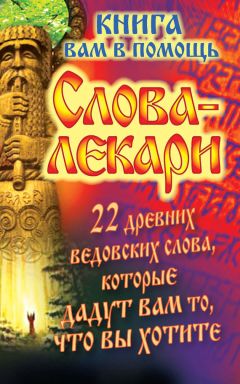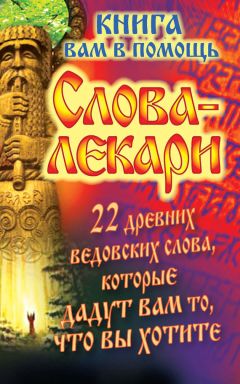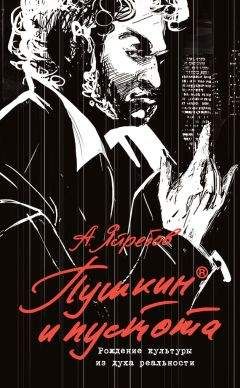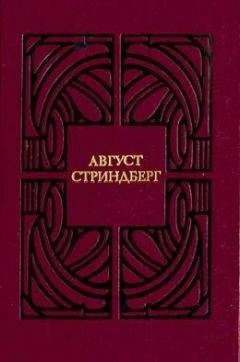Август Стриндберг - Слово безумца в свою защиту
Единственный способ спасти положение – уехать за границу, и как можно скорее. Разыгрывая роль потерпевшего кораблекрушение, я провел утро, расхаживая по веранде, и то и дело постукивал по барометру, наблюдая движение стрелки, так что время пролетело довольно быстро, и пароход появился в горловине пролива прежде, чем я успел решить, отправиться ли мне на причал или остаться тут. Но, поскольку я не хотел стать посмешищем для людей, посвященных в мои обстоятельства, я все же не вышел из комнаты. После недолгого ожидания я услышал взволнованный голос баронессы, расспрашивающей хозяйку гостиницы о моем здоровье. Я поспешил ей навстречу, и она едва не кинулась мне на шею на глазах у всех. Исполненная состраданья, она громко сетовала на болезнь, которая случилась в результате переутомления, и горячо упрашивала меня вернуться в город, отложив поездку до весны.
В тот день она была удивительно хороша. Ее шуба, ниспадающая мягкими складками, напоминала одежду тибетского ламы, а крупные завитки каракуля эффектно подчеркивали стройность фигуры. От резкого морского ветра кровь прилила к ее щекам, а ее глаза, увеличившиеся от охватившего ее волнения, выражали бесконечную нежность. Как я ни пытался умерить ее тревогу насчет моего здоровья, уверяя, что уже вполне поправился, все было тщетно. Она уверяла, что я выгляжу как покойник, что мне противопоказаны малейшие усилия, – словом, обращалась со мной, как с малым ребенком. И эти материнские заботы ее необычайно красили. Интонации ее стали певуче-ласковыми, она шутки ради стала говорить мне «ты», закутала в свою шаль, а за столом повязала мне салфетку вокруг шеи, следила, чтобы мой стакан не был пуст, что-то разрешала, что-то запрещала. Она воистину была воплощением материнства! Если бы она могла быть так беззаветно предана своему ребенку, как была предана мне – затаившемуся самцу, преследующему самку, зверю в период осеннего спаривания! В роли больного дитяти, окутанный ее шалью, я чувствовал себя серым волком, улегшимся в постель бабушки, чтобы сожрать Красную Шапочку.
Мне стало стыдно. Стыдно перед ее мужем, наивным, открытым, заботившимся обо мне и тщательно избегавшим мучительных объяснений. И все же вины на мне не было, сердце мое замкнулось, и я принимал все знаки внимания, которые оказывала мне баронесса, прямо с оскорбительной холодностью.
Во время десерта, незадолго до отправления парохода, барон предложил мне вернуться с ними в город и занять комнату в их квартире – они готовы были мне ее предоставить. К чести своей должен сказать, что на это предложение я ответил решительным отказом. Ведь я прекрасно понимал, насколько опасно так играть с огнем, и поэтому объявил им свое твердое, не подлежащее отмене решение остаться здесь еще на неделю, чтобы окончательно прийти в себя, а потом вернуться в город и жить там в своей старой мансарде.
Так я поступил, несмотря на повторные протесты моих друзей. Странная вещь, но как только я становился непреклонным, как только проявлял волю и мужественность, баронесса разом теряла ко мне дружеское расположение. А чем больше я был растерян, чем больше уступал всем ее капризам, тем больше она меня боготворила и осыпала похвалами за мудрость и кротость. Она меня подавляла, подчиняла себе, а если я начинал оказывать ей хоть малейшее сопротивление, полностью отстранялась и проявляла ко мне неприязнь, граничащую с жестокостью.
Так, обсуждая вопрос о совместной жизни, она потеряла всякое хладнокровие, перечисляя взаимные выгоды, которые ожидают нас в этом случае. Особо важным тут было, по ее мнению, то обстоятельство, что таким образом мы имели бы удовольствие постоянно видеться, не приглашая друг друга в гости.
– Но помилуйте, баронесса, – возразил я, – что скажут люди, узнав, что в доме молодоженов поселился некий молодой человек?
– Что нам до людей и до их болтовни!
– Но ваша матушка и ваша тетушка… К тому же моя гордость не может смириться с тем, чтобы со мной обращались как с несовершеннолетним.
– К черту мужскую гордость! Вот погибнуть, не проронив ни слова, это вы считаете поступить по-мужски, да?
– Конечно, баронесса, мужчина должен быть сильным.
Тут она пришла в бешенство и с гневом принялась отрицать, вопреки очевидности, различие полов. Ее женская логика до того запутала меня, что я был вынужден обратиться за помощью к барону, который лишь усмехнулся в ответ, однако в усмешке этой я уловил глубокое презрение к женскому уму.
Около шести вечера пароход отчалил, увозя моих друзей, и я в одиночестве вернулся в гостиницу.
Вечер выдался великолепный. Оранжевый закат, дьявольски синяя вода с белесыми разводами, а над горизонтом, зубчатым из-за верхушек елей, висела медная луна.
Я сел за столик в ресторане, подперев голову руками, отдался своим переменчивым мыслям, то смертельно печальным, то веселым, и тут ко мне подошла хозяйка.
– Скажите, сударь, молодая дама, которую вы только что проводили, ваша сестра?
– Нет, не сестра.
– Просто удивительно, до чего вы похожи друг на друга! Можно поклясться, что вы брат и сестра.
Так как я не был расположен поддерживать этот разговор, он тут же иссяк, однако дал новый толчок моим раздумьям.
Возможно ли, спрашивал я себя, что сосредоточенность всех моих мыслей в эти дни на баронессе как-то изменила черты моего лица, а может быть, дело просто в том, что выражение наших лиц стало сходным за эти полгода интенсивной духовной близости? Стремление понравиться друг другу во что бы ни стало привело, видимо, к бессознательному отбору наиболее привлекательной мимики, к наиболее обаятельной манере держать себя, все же иное постепенно исчезало. Вполне возможно, что так оно и было, во всяком случае, поскольку произошло взаимопроникновение двух душ, мы отныне действительно стали зависеть друг от друга. Судьба, а говоря проще, инстинкт сыграл, как всегда, свою низменную и неизбежную роль, камень покатился с горы, сметая со своего пути все и вся – честь, разум, счастье, верность, добродетель, целомудрие!
Какое изумительное простодушие! Она, видите ли, задумала поселить под своей крышей пылкого молодого человека, находящегося в том самом возрасте, когда все желания порождаются плотскими вожделениями. Кто же она, в конце концов, тайная распутница или женщина, которой любовь помрачила разум? Распутница? О нет! Тысячу раз нет!… Я боготворил ее за естественность поведения, за душевную чистоту, за искренность и материнскую нежность. Да, что и говорить, она эксцентрична, даже, если угодно, взбалмошна, что, впрочем, она и сама за собой знает, трезво оценивая свои недостатки, но она не злодейка! И даже когда она прибегает к своим наивным хитростям, чтобы растревожить меня, она ведет себя как уверенная в себе женщина, которая забавляется тем, что смущает робкого юношу, а не как заядлая кокетка, стремящаяся вызвать плотскую страсть у заинтересовавшего ее мужчины.
Теперь я должен был укротить пробудившихся демонов и, чтобы навести всех на ложный след, сел за письменный стол и набросал письмо, в котором снова оседлал своего старого конька и витиевато распространялся о своей несчастной любви, приписывая этот приступ отчаяния успеху певца, навеки лишившему меня всяких надежд. И в виде литературного доказательства приложил к письму два стихотворения «К НЕЙ», исполненных как бешеного темперамента, так и двойного смысла. Если они ранят баронессу, то что ж, я не против! Однако ни на письмо, ни на стихи ответа не последовало; то ли мой прием уже не произвел на них должного действия, то ли эта тема их уже не интересовала.
Тихие, спокойные дни, которые я провел в деревне, помогли мне восстановить силы. Окружавшая меня природа была одухотворена образом обожаемой мною женщины, даже лес, в котором я провел такие страшные часы, будто в чистилище, казался мне теперь веселым, и когда я гулял по утрам, эти места, где я насмерть сражался со всеми демонами, заключенными в человеческом сердце, уже не внушали мне ни капли ужаса. Встреча с ней и уверенность, что вновь ее увижу, вернули мне жизнь и разум!
Хорошо зная по личному опыту, что нежданный гость никогда не бывает по-настоящему желанным, я вошел в дом баронессы лишь после больших колебаний. Еще на улице меня неприятно поразили голые деревья, отсутствие скамеек в садике, неогороженные клумбы, танец сухих листьев на ветру – печальные приметы зимы. А войдя в гостиную, я испытал чувство подавленности, вдохнув спертый воздух, согретый высокими белыми изразцовыми печами, встроенными в стены, – казалось, они свисали с потолка, словно простыни. Вторые рамы были уже вставлены, и щели заклеены белой бумажной лентой. Из-за ваты, лежащей между рамами и изображающей снег, казалось, что эту комнату приспособили для умирающего. Я постарался мысленно убрать из нее все предметы дворянского быта и восстановить ее в прежнем виде, когда она была столовой в буржуазном доме с суровым укладом: голые стены, дощатый пол, не покрытый ковром, обеденный стол из мореного дуба на восьми ногах, похожий на паука, а над ним – строгие лица отца и мачехи.