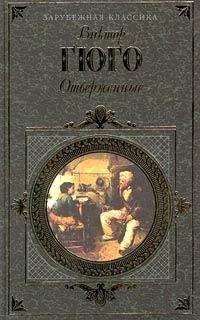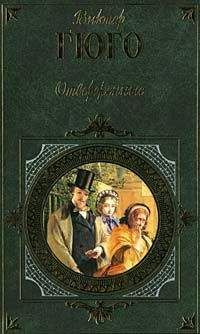Виктор Гюго - Отверженные. Том II
На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись ссылкой: Курфейрак — см. Толомьес.
Курфейрак и в самом деле был полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка; двуногое очаровательное создание превращается в буржуа, четвероногое — в кота.
Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва, его передают из рук в руки, quasi cursores[26], почти без изменений. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817-м. Но Курфейрак был честным малым. Несмотря на кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке таился рыцарь.
Если Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он — больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством: открытым, приветливым нравом.
Баорель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года, в связи с похоронами юного Лалемана.
Баорель был хороший малый, славившийся дурным поведением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости, и добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Отчаянный буян, иными словами — страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому, в свою очередь, предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить низвержением правительства, подстрекаемый любопытством поглядеть, что же из этого восполучится. Он одиннадцатый год числился студентом. но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом: «Адвокатом не буду», а гербом — ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот-до пальто в ту пору еще не додумались — и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Красавец старик!», а о декане факультета Дельвенкуре: «Монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, профессора, которых слушал, — сюжетом для карикатур. Он проживал, палец о палец не ударяя, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну.
Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому умные».
Человек непостоянный, Баорель слонялся по разным кафе; другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать — только парижанам. А в сущности, Баорель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казался с первого взгляда.
Он служил связующим звеном между Друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более определенную форму.
В нашем конклаве был один лысый молодой человек.
Маркиз д'Аваре, которого Людовик XVIII пожаловал герцогом за то, что он подсадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» — спросил король. — «О месте почтмейстера, ваше величество». — «Как вас зовут?» — «Л'Эгль».
Король нахмурился, но, взглянув на подпись под прошением, увидел, что фамилия писалась не л'Эгль, а Легль[27]. Такое отнюдь не бонапартистское правописание тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество! — продолжал проситель. — Мой предок был псарь по прозвищу Легель, от этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно — Легль, а искаженно — л'Эгль». Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он все же вручил просителю бразды правления в почтовой конторе в Мо.
Лысый друг азбуки был сыном этого л'Эгля, или Легля, и подписывался Легль (из Мо). Товарищи звали его для краткости Боссюэ.
Боссюэ был веселым, но незадачливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать пять лет он успел облысеть. Отец его сумел в конце концов нажить и дом и земельный участок, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и землю и дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял — все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружком. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему «на голову со всех крыш валится черепица». Спокойно, как должное, ибо привык к неудачам, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилась веселость. Ему частенько случалось терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее как старую знакомую и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, Горюшко!»
Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, если приходила охота, производить «безумные траты». В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел «целых сто франков», ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества слова: «Эй ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги!»
Боссюэ не торопился овладеть профессией адвоката. Он изучал юридические науки на манер Баореля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не было совсем никакого. Он жил то у одного, то у другого приятеля. Чаще всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Боссюэ.
Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. Он стал не столько врачом, сколько больным. В двадцать три года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а изножьем на север, чтобы, под влиянием магнитных сил земли, кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Тем не менее это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем, — в итоге получалось эксцентричное, но премилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жолллли». «Смотри, не улети на своих четырех „л“!» — шутил Жан Прувер.[28]
Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служит признаком проницательности.
Всех этих молодых людей, столь не похожих друг на друга, объединяла общая вера в Прогресс; в конечном счете они заслуживали глубокого уважения.
Все они были родными сынами французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося: «Восемьдесят девятый год». Их отцы по плоти могли в прошлом, и даже в настоящем, принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения; молодежи не было никакого дела до неразберихи, царившей до них; в их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга.
Организовав братство посвященных, они начали втайне подготовлять осуществление своих идеалов.
Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантером; он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву Р[29]. Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретавших за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так, он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» — наилучшим бильярдом, «Эрмитаж» на бульваре Мен — прекрасными оладьями и приятнейшими девицами, что у тетушки Саге великолепно жарят цыплят, у Кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Боев можно получить недурное белое винцо. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, ко всему прочему был не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию: «Грантер, — заявила она, — есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантера. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора; всем своим видом он словно говорил: «Захоти я только!» — и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто нарасхват.
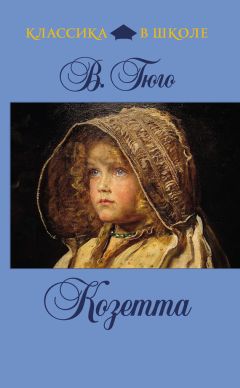

![Наталья Девятко - Карта и компас [litres]](/uploads/posts/books/26432/26432.jpg)