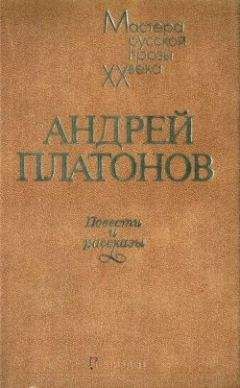Александр Дюма - Кавказ
— По крайней мере теперь, — сказал один из казаков, — татары уже предупреждены о нас.
Татары были где-то в другом месте. Мы совершили опасный переход через лес, и хотя день сменился сумерками, а сумерки ночью, но мы здоровые и невредимые прибыли в Щуковую.
Казак, которого мы посылали к начальнику поста с просьбой отвести нам квартиру, прибыл туда ранее нас десятью минутами. Щуковая — военный пост, и потому следовало нам обратиться не к полицмейстеру, как в Кизляре, а к командиру.
Аванпосты оберегали селения, и хотя там был целый батальон, т. е. около тысячи человек, но понятно было, что здесь предпринимаются те же самые меры предосторожности, как и во всех казачьих станицах.
Нам отвели две комнаты, уже занятые двумя молодыми русскими офицерами. Один возвращался из Москвы, где он был в отпуску у своих родителей, — другой, поручик Нижегородского драгунского полка, прибывший из Чир-Юрта покупать лошадей для полка, ожидал солдат, отправившихся в окрестности за овсом.
Молодой отпускник очень торопился в Дербент. Не имея права на конвой, он, если б отправился один, не сделал бы и двадцати верст без того, чтобы не погибнуть. Поэтому он с нетерпением ожидал так называемой оказии.
Оказия есть соединение большого числа путников, едущих в одно и то же место в сопровождении достаточного конвоя, назначаемого местным военным начальником для такого каравана. Конвой состоит обычно из ста пятидесяти пехотинцев и из двадцати пяти кавалеристов. Среди отправляющихся в путь почти всегда бывает несколько пешеходов, и потому оказия движется очень медленно. Самые большие переходы — пять или шесть миль в день.
Молодой офицер должен был ехать от Щуковой до Баку почти пятнадцать дней. Он был в отчаянии тем более, что отпуск его давно уже кончился.
Наш приезд был для него истинным подарком судьбы. Теперь он воспользуется нашим конвоем и заставит свою кибитку тащиться между нашим тарантасом и нашей телегой.
Что же касается другого офицера, то и он был нам рад, тем более, что уже отведал вдоволь кизлярского вина, а это вино, как говорят, одно из тех, которые в высшей степени развивают филантропические чувства. Если бы можно было напоить весь свет кизлярским вином, то все люди вдруг сделались бы братьями.
Кавказ имеет такое же влияние на русских офицеров, как Атлас[68] на наших африканских офицеров: уединение способствует праздности, праздность скуке, а скука пьянству.
Что остается делать несчастному офицеру без общества, без женщин, без книг, на посту с двадцатью пятью казаками? Пьянствовать.
Только имеющие слишком богатое воображение сопровождают это занятие, неизменно состоящее в том, чтобы переливать вино или водку из бутылки в стакан и из стакана в глотку, какими-то более или менее живописными дополнениями.
Во время путешествия мы познакомились с капитаном и со старшим хирургом, которые развили перед нами самую обширную и оригинальную программу своих фантазий, связанных с пьянством.
Каждый офицер имеет в распоряжении солдата, этот солдат называется денщиком. Наш капитан, окончив утром служебные дела, ложился на походную постель и звал денщика. Фамилия денщика Брызгалов.
— Брызгалов, — говорил он ему, — ты знаешь, что мы сейчас поедем?
Денщик, который уже изучил свою роль, отвечал:
— Знаю, господин капитан.
— Ну, брат, так как нельзя ехать не закусив, то поедим сухарей да выпьем по чарке, а потом ступай за лошадьми и вели запрягать.
— Слушаюсь, господин капитан, — отвечал Брызгалов и приносил хлеба и сыру с бутылкой водки. Капитан, слишком добрый, чтобы одному воспользоваться божьими дарами, всегда угощал Брызгалова сухарем и стаканом водки, а сам выпивал два стакана, после чего говорил:
— Теперь, я думаю, уже время идти за лошадьми; не забудь, брат, что нам предстоит длинный путь.
— Как бы дорога ни была длинна, она будет мне приятна, если вы, господин капитан, возьмете и меня с собою, — отвечал любезный денщик.
— Вместе поедем, брат, вместе; разве люди не братья? Оставь мне водку и стакан, чтобы я не слишком скучал в ожидании тебя, и иди за лошадьми. Ступай, Брызгалов, ступай.
Брызгалов выходил, а капитан выпивал еще стакан или два. Потом денщик возвращался держа в руке колокольчик, который привязывают к дуге[69].
— Вот и лошади, господин капитан, — говорил он.
— Хорошо; вели запрягать и торопи ямщиков.
— Чтобы не скучать, пока они закладывают, выпейте, господин капитан, еще стаканчик.
— Ты прав, Брызгалов. Только я не люблю пить один: так пьяницы делают. Возьми, брат, стакан и пей.
— Эй, вы, запрягайте, запрягайте!
Когда стаканы опорожнялись, Брызгалов говорил:
— Все готово, господин капитан.
— Ну, так поедем.
И капитан лежит на своей постеле, Брызгалов садится около его ног звеня колокольчиком, будто оба мчатся на тройке. Капитан засыпает. Проходит полчаса.
— Господин капитан, — говорит Брызгалов, — мы прибыли на станцию.
— Гм, что? — отзывается капитан, просыпаясь.
— Я говорю, что мы прибыли на станцию.
— А, если так, то надо еще выпить чарку.
— Выпейте, господин капитан.
И оба спутника, братски чокаясь, вновь опустошают свои стаканы.
— Едем далее, едем, — говорил капитан, — надо поспешать.
— Едем, — говорил Брызгалов.
Таким образом они приезжали на вторую станцию, где пили так же, как и на первой. На четвертой станции бутылка была уже пуста. Брызгалов приносил другую.
На последней станции капитан и денщик лежали рядом мертвецки пьяные. Путешествие возобновлялось на другой день. Старший хирург поступал иначе.
Он занимал дом, выстроенный по-восточному, с нишами в стене. В семь часов утра он оставлял свое жилище и отправлялся в госпиталь. Визит его был более или менее продолжителен, смотря по числу больных; потом он возвращался.
Во время своего отсутствия, он приучил денщика ставить по два стакана пуншу в каждой нише. Вот он начинал прохаживаться по своей комнате.
— Гм! — говорил он, останавливаясь перед первой нишей и как будто бы разговаривая с соседом. — Как ветрено сегодня утром!
— Дьявольский ветер, — отвечал он сам себе.
— Для здоровья очень вредно выходить натощак при таком ветре.
— Правда ваша; не хотите ли выпить чего-нибудь?
— Я охотно выпил бы стакан пуншу.
— Признаюсь, и я также. Кащенко, два стакана пуншу!
— Извольте, сударь.
И доктор, который сам себе задавал вопросы и отвечал на них, соответственно менял интонации голоса, брал по стакану пуншу в каждую руку и, пожелав себе всевозможного благополучия, выпивал оба стакана.
У второй ниши тема разговора менялась, но результат был тот же самый.
Возле последней ниши он выпивал двадцатый стакан пунша. К счастью, она, эта ниша, была у самой его постели.
Доктор ложился довольный, что посетил всех пациентов.
Мы познакомились в Темир-Хан-Шуре с батальонным командиром. В кампанию 1853 г. он имел дело в основном с турками и питал к ним страшную ненависть за пулю, которую они пустили ему в бок, и за сабельный удар в лицо.
Это был превосходный человек, храбрый до безрассудства, но дикий, предпочитавший уединение, не общавшийся ни с кем из своих сослуживцев. Он жил в маленьком доме, отдельно от других и вне города в обществе собаки и кошки. Собаке он дал кличку «Русский», а кошке — «Турок».
Первая была злая собачонка с белыми и черными пятнами на трех ногах, — четвертую она держала постоянно приподнятой; одно ее ухо отвисло, а другое стояло вертикально словно громоотвод. Кошка же была серого цвета и неопределенной породы.
До конца обеда «Турок» и «Русский» бывали в самых дружеских отношениях; один ел по правую сторону, а другой по левую от хозяина.
Но после обеда, закуривая трубку, он брал «Турка» и «Русского» за загривок и садился на стул, приготовленный ему денщиком у дверей.
Храбрый офицер говорил кошке:
— Ты знаешь, что ты «Турок»?
А собаке:
— Тебе ведомо, что ты «Русский»?
И обеим вместе:
— Вы знаете, что вы враги и что вы должны задать друг другу жару?
Предупредив их таким образом, он тер их морды одну о другую до тех пор, пока, несмотря на всю их дружбу, собака и кошка не приходили в остервенение. Тогда начиналась потасовка, о которой говорил батальонный командир. Сражение продолжалось, пока один противник не уступал поля другому. Почти всегда кончалось тем, что «Русский», т. е. собачонка, брала верх.
Когда мы имели честь познакомиться с батальонным командиром и с его кошкой и собакой, — «Турок» был уже без носа, а «Русский» совсем кривой.
С сожалением думаю, как пойдет жизнь этого храброго офицера, если он будет иметь несчастье, впрочем неизбежное, лишиться когда-нибудь «Русского» или «Турка». Вероятно, он застрелится, если только не начнет «делать визитов», подобно вышеупомянутому доктору или «путешествовать», как капитан.