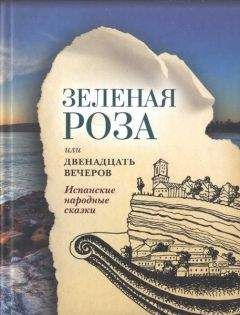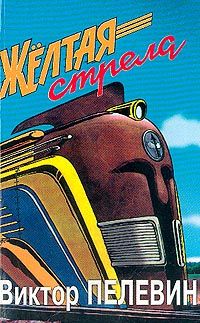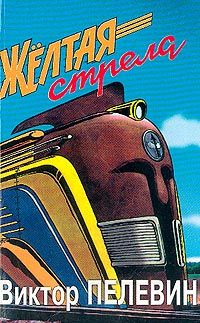Мор Йокаи - Жёлтая роза
— Откуда держишь путь?
— Да вот с матайского хутора. Заезжал к ветеринару.
— К ветеринару? Ну, тогда приканчивай своего Белолобого.
— А зачем мне его приканчивать?
— А затем, что его обогнала докторская кляча. С добрых полчаса назад я видел, как он тащился в своей бричке к матайскому загону.
— Ну, это ты брось, дружище! Твой гнедой тоже частенько плетётся позади сивого осла старшего чабана.
— Ишь, какая красивая жёлтая роза у тебя на шляпе, приятель!
— Видно, я её заслужил.
— Смотри не пожалей потом, что заслужил.
С этими словами табунщик угрожающе поднял кулак, широкий рукав его рубашки откинулся до плеча, обнажив загорелую мускулистую руку. Затем оба пришпорили коней и поскакали каждый своей дорогой.
2
Пастух трусил рысцой к загону. На горизонте уже начали вырисовываться замские холмы, небольшая роща акаций и колодец с тремя журавлями. Но ехать до них ещё далеко. Парень снял со шляпы предательскую жёлтую розу и, завернув её в красный платок, спрятал в завязанном рукаве бурки.
Табунщик же внезапно изменил направление и, пришпорив своего коня, поскакал туда, где над рекой Хортобадь, несущей свои воды по гладкой, как море, безбрежной степи, низко нависла синеватая дымка тумана. Он спешил отыскать кустик, на котором недавно цвела та жёлтая роза.
Ведь на всю хортобадьскую степь есть только один-единственный куст жёлтой розы, и растёт он в саду корчмаря. Говорят, его завёз сюда из Бельгии какой-то иностранец. Удивительные это розы: они распускаются на троицын день, цветут всё лето и даже в канун рождества стоят ещё в полном цвету. Они жёлтые, как чистое золото, а запах их скорее напоминает запах муската, нежели розы. Эх, немало людей, вдохнувших аромат этих цветов, теряли головы. Девушку, которая срывала и раздаривала розы, тоже прозвали Жёлтой Розой.
Никто не знал, как попала она к старому корчмарю. Жены у него не было. Наверное, ему просто подкинули ребёнка. Старик оставил девочку у себя, вырастил её, и расцвела она, словно прелестный, стройный цветок. Лицо её не было румяным, как у других девушек; смуглое, чуть-чуть желтоватое, оно казалось прозрачным, но отнюдь не производило впечатления болезненного: в нём играла жизнь, и когда девушка улыбалась, лицо её как бы излучало свет. Смеющийся рот, уголки которого приподымались кверху, прекрасно гармонировал с большими синими глазами. Впрочем, трудно сказать, синие они были или чёрные, ибо человек, заглянувший в них, забывал всё на свете. Свои чёрные локоны она перевязывала жёлтой лентой: ей-то уж не приходилось смазывать волосы соком айвы, чтобы они вились, как это делают другие девушки.
А сколько она знала песен! И как хорошо пела их, когда ей хотелось. Она пела, когда у неё было легко на сердце, пела, когда ей было грустно: для всякого настроения была своя песня. Крестьянская девушка не может жить без песни: с песней легче работается, быстрее бежит время, короче становится путь.
Едва начинало светать, а в огороде уже звенел её голосок: она полола.
Старый корчмарь уже отошёл от дел. Гостей обслуживала девушка: она подаёт вино, стряпает, ведёт счёт деньгам. Старик же занимался своими пчёлами — они как раз роились.
Но вот со двора донёсся стук копыт и раздался приветливый лай собак: так они обычно встречают знакомого.
— Клари! Выходи! Ты что, не слышишь? Собаки лают, гость приехал. Да угости его как следует.
Оправив пёструю широкую юбку, подоткнутую для работы в огороде, девушка надела туфли с бантиками, ополоснула из лейки руки, вытерла их передником и, сняв его, осталась в другом, чистом, на поясе которого висел ключ от буфета. Затем она сняла с головы пёстрый платок, послюнявила ладони и, пригладив волосы на висках, прикрепила розу, сорванную с вечно цветущего куста.
— Опять срываешь розы? А если там только жандарм?
Что значит «только»? Разве к киверу жандарма нельзя приколоть розу? Или, может быть, он не достоин такой награды?
Но в питейном зале, у самого конца длинного стола, сидел, конечно, не жандарм, а удалой табунщик Шандор Дечи.
Табунщик громко стукнул пустой бутылкой по столу и с хмурым достоинством бросил вошедшей девушке:
— Принеси вина.
Завидев парня, Клари вскрикнула и всплеснула руками:
— Шандор Дечи! Неужто ты вернулся? Шандор! Милый мой, дорогой!
— Я сказал, принеси вина, — резко повторил табунщик и подпёр кулаком склонённую голову.
— Так вот как ты желаешь мне доброго утра после долгой разлуки?
Эти слова заставили Шандора опомниться. Он ещё не забыл, что такое вежливость; снял шляпу и положил её на стол.
— Доброе утро, барышня!
— М-е-е-е! — передразнила его девушка, высунув кончик розового языка, и пошла к прилавку, строптиво передёрнув плечами и покачивая бёдрами. Возвратись с вином, она поставила его перед табунщиком и дрогнувшим голосом спросила:
— Почему ты назвал меня барышней?
— А потому, что ты и есть барышня.
— Я и раньше была ею, но ты мне этого не говорил.
— То было раньше.
— Вот тебе вино. Что ещё угодно заказать?
— Спасибо. Там видно будет.
Девушка, прищёлкнув от досады языком, села рядом с парнем на кончик длинной скамейки.
Шандор взял бутылку, поднёс её ко рту и, не отрываясь, осушил до дна, а потом с такой силой хватил ею о каменный пол, что она разлетелась вдребезги.
— Зачем ты разбил бутылку? — робко спросила девушка.
— Чтобы после меня никто не пил из неё.
С этими словами он швырнул на стол три красненьких (так называли в народе красные десятикрайцаровые ассигнации). Две — за вино, одну — за бутылку.
Девушка покорно взяла веник и вымела осколки, затем (она-то знала правила!) подошла к прилавку, захватила другую бутылку и поставила её перед табунщиком. Снова подсев к нему, она попыталась заглянуть ему в глаза. Но Шандор надвинул шляпу на лоб. Тогда Клари сняла её у него с головы и стала прикалывать к её шёлковой ленте свою жёлтую розу.
Парень вырвал шляпу у неё из рук:
— Оставь свою розу тому, кто её больше достоин.
— Шандор! Ты хочешь довести меня до слёз?
— Твои слёзы ничего не стоят, они фальшивые. У тебя даже молитва и та притворная. Разве сегодня на рассвете ты не прицепила розу к шляпе Ферко Лаца?
Девушка не только не покраснела, а стала ещё бледнее.
— Шандор! Ей-богу, я не…
Но она не договорила: парень внезапно зажал ей рот рукою.
— Хоть бога-то не поминай. А откуда, у тебя золотые серёжки в ушах?
Девушка рассмеялась:
— Ах ты чудак! Ведь это же те самые серебряные серёжки, которые ты подарил мне, только я отдала их позолотить мастеру в Уйвароше.
Услышав это, табунщик взял обе руки девушки в свои и нежно сказал ей:
— Клари, милая моя! Я больше не буду называть тебя барышней. Только умоляю тебя — не лги мне. Я ненавижу ложь. Говорят, «собака брешет». А ведь собака не брешет, она лает, и лает по-разному: когда в дом заберётся вор, когда возвращается хозяин, когда чует опасность. Она не ошибается и не путает одного с другим. Собака правдива. Лгать умеет только человек. Вот это настоящий брёх. Мне всегда не по душе была ложь. У меня язык не поворачивается говорить неправду. Да и не к лицу это настоящему мужчине. Хуже нет, если мужчина говорит неправду, как мальчишка из страха перед трёпкой. Помнишь, прошлой осенью здесь были вербовщики и всех нас, степняков, забирали в солдаты. Хозяева наши из города хотели оставить нас, пастухов, дома, при гуртах и табунах, так как им без нас туго бы пришлось. Они подкупили призывную комиссию. Фельдшера каждому из нас нашёптывали, на какую хворь нам надо жаловаться, чтобы нас отпустили вчистую. Ферко Лаца поддался на уговоры. Он притворился, что глух, как тетерев, и уверял, будто не услышит даже звука трубы. Я чуть не сгорел со стыда за него. Ферко отпустили домой, хотя он прекрасно слышит — по мычанию коровы ночью, в полной темноте, может определить: чужая ли приблудилась к стаду, или своя ищет отбившегося телёнка. Здорово врал, сукин сын. Когда наступила моя очередь, фельдшер с ног до головы осмотрел меня и выдумал, что у меня неправильно бьётся сердце. «Если оно и бьётся неправильно, — ответил я, — то виновато в этом не сердце, а та жёлтая роза, что растёт в хортобадьской корчме». Господа всё старались внушить мне, чтобы я согласился с доктором, будто у меня «расширение сердца». «Да нет же, — сказал я им, — моё сердце вовсе не расширенное. В нём умещается только одна маленькая-премаленькая девушка. Нет во мне никакой хвори!» И меня забрали в солдаты. Зато с почтением отнеслись: даже не остригли, а прямо послали в Мезёхедьеш служить при войсковом табуне. Полгода спустя хозяева из города внесли за меня тысячу форинтов выкупа, чтобы я только вернулся к своему дикому табуну, где был очень нужен. Эту тысячу форинтов я им отработаю, а врать, как Ферко Лаца, всё равно не буду.