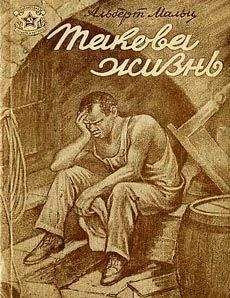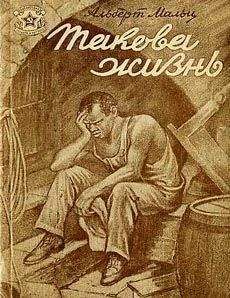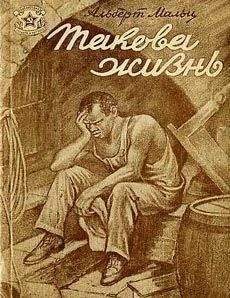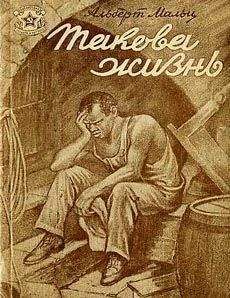Альберт Мальц - Такова жизнь
Шериф Токхью во все глаза уставился на юношу. В первую минуту его лошадиная физиономия цвета дубленой кожи не выражала ничего. Потом она медленно начала покрываться сетью веселых морщинок. Острые зеленые глазки, глубоко сидевшие в глазницах, засверкали, точно маленькие драгоценные камешки. Верхняя губа вздернулась, обнажив желтые зубы. – Правильно, Чарли, – мягко сказал Токхью, и тон у него, как ни странно, был довольный, – тебя этим не проймешь. – Глаза его блестели. – Мало того: когда понадобится, Чарли, я буду ползать перед тобой на коленях. Да, сэр! А знаете, почему? – сказал он ее смешком, в котором слышались и злоба и удовольствие. – Потому что я человек умный! Захочется мне чего-нибудь, и я все сделаю, а своего добьюсь; понадобится – и ползать буду! Да, сэр! – Голос его гудел. – Деньги, Чарли, деньги! А умный человек ползает перед теми, у кого они есть! – Шериф потянулся за бутылкой. Он с жадностью сделал несколько глотков. Потом стиснул губы в напряженной, злобной улыбке. – Я держусь тем, что плачу кому следует. Да, сэр! И получаю с кого следует! Да, сэр! Я лижу кое-кому пятки, и те, кто от меня зависят, лижут мне. Да, сэр! Правильно я говорю, мистер Таун?
– Ну, еще бы! – со смехом сказал Таун.
– Стоит мне только цыкнуть на вас, вы уже готовы мне пятки лизать. Верно, мистер Таун?
– Ну, еще бы! – смеялся понятой.
– И так оно и должно быть, – горделиво заключил шериф. – Такова жизнь! А разбираются во всем этом только умные люди. Вот я разбираюсь, – сказал он, торжествующе глядя на обоих понятых, – уж я-то разбираюсь. – Он отпил из бутылки еще на два пальца. – Вот посмотрите, – шериф показал на лужайку перед домом Смоллвуда, где в тени бродили жирные овцы. – Вот что эти Смоллвуды могут себе позволить! Смоллвуды держат овец только для того, чтобы те подстригали им лужайки. А мы этого не можем, – злорадно заключил он, – мы не можем! – Он поднял бутылку и снова заговорил, не переставая глотать виски. – «Захватите с собой двух понятых, мистер Токхью!» Я спрашиваю: «А что случилось, мистер Смоллвуд?» А он отвечает: «Приезжайте часам к двенадцати». – Токхью уставился на своих понятых. – Ну, что это за ответ?
Понятые молчали.
– И вот я выезжаю в воскресенье – заметьте, в воскресенье – и мчусь сюда, посадив за руль моего племянника, а мистер Смоллвуд скажет мне: «Мистер Токхью, будьте любезны, почешите мне спину!» А что я сделаю? – Шериф помолчал, глядя на понятых горящими, как драгоценные камни, глазами. – Как что? Почешу ему спину! Пусть что хочет подставляет, где угодно почешу, – с торжеством закончил он. – Потому что это мистер Эвери Дж. Смоллвуд, а у него десять тысяч акров земли и тысяча негров, и я сделаю все, что он прикажет, будто я сам негр, – потому что от него зависит, останусь я на своем теплом местечке или нет. Да, сэр! – Токхью хлопнул себя по острой коленке ладонью. – Я пойду к мистеру Смоллвуду и покорно опущу голову и буду скрести себе брюхо, а мистер Смоллвуд скажет: «Вот, так и надо! Этот человек знает свое место. Лучшего шерифа мне не найти». – Токхью радостно фыркнул. Он ударил рукой по обивке сиденья. – А я, как негр-издольщик, – стою да брюхо поскребываю!
Шериф быстро встал. Он надел свой длинный, черный, как у пастора, сюртук. – Трогай, Чарли! – заорал он. – Гони во всю мочь. Уж очень мне охота брюхо поскрести!
II
Дом Смоллвуда, вполне современный по стилю, выглядел очень элегантно в окружении зеленого кустарника, тенистых деревьев и красивого узора клумб. Он был единственный в своем роде во всем округе, где большинство плантаторов не имело возможности даже покрасить свои старые дома хотя бы раз в пять лет, не говоря уже о постройке новых. Поэтому дом Смоллвуда служил одновременно и местной достопримечательностью, и предметом острой зависти соседей. Ухитряясь преуспевать даже в тяжелые для хлопкового рынка годы, Эвери Смоллвуд представлял собой почти исключение среди здешних землевладельцев. Недоброжелатели приписывали это чистой удаче, но его успехи были основаны на трезвом деловом расчете. Плантация Смоллвуда занимала громадный участок; кроме того, у него была собственная машина для очистки хлопка и, что самое главное, он заправлял делами прядильной фабрики в Батон-Руже, которая скупала у него хлопок. Это позволяло Смоллвуду выбираться на поверхность там, где тонули другие.
Дом Смоллвуда, весь участок, содержавшийся в идеальном порядке, фруктовый сад, который тянулся на целую милю, подходя вплотную к плантации, новый каменный гараж с помещением для прислуги наверху, пастбища для скота, цветы, деревья, – все это было необычным зрелищем среди моря развалившихся лачуг и унылых хлопковых полей. Из заезжей публики никто не покидал округ Кларабелл, не прокатившись мимо плантации Смоллвуда.
В это жаркое воскресное утро, когда открытая машина с тремя понятыми свернула на длинную дорогу, ведущую к плантации, Эвери Смоллвуд оставил на минуту свою работу, чтобы посмотреть с веранды, кто это едет. Он сидел у мольберта с девяти часов утра. Увидев костлявую фигуру Токхью, подпрыгивающую на заднем сиденьи, он скорчил недовольную гримасу и снова повернулся к мольберту. Смоллвуд недолюбливал Токхью. Всегда недолюбливал. Он аккуратно положил мазок на холст. Потом отступил назад. Нахмурился. Не годится, никуда не годится. Он нетерпеливо вздохнул. Сегодня утром у него ничего не клеится, просто жаль потерянного времени. Лучше было бы пойти поиграть с детьми. А сейчас еще этот Токхью явился.
Смоллвуд опять вздохнул. Он был маленького роста, чуть выше пяти футов, с тонкими красивыми чертами сурового смуглого лица. Этот физический недостаток отравлял ему жизнь. Он не мог примириться с ним, как не мог примириться и с многими другими сторонами своей жизни. Помимо его воли, – словно он был все еще мальчик, стесняющийся своих сверстников, – перед ним встал образ Токхью: громадная, страшная, желтозубая обезьяна наклоняется к нему, еле заметной хитрой усмешкой давая понять, что иначе, пожалуй, не расслышишь… «Да-а, – подумал Смоллвуд, – вот так всегда в жизни. Она не дает полного, до краев, довольства; успех неизменно несет с собой щемящую боль поражения. В детстве его мучил маленький рост. Сейчас работа. И многое другое».
Работа! А что такое его работа? Смоллвуд задавал себе этот вопрос не впервые. Что считать своей работой – хлопок или живопись? Окончив колледж, он несколько лет учился живописи в Европе. Потом вернулся домой незадолго до смерти отца и принял от него плантацию. Дела шли успешно. Он ввел кое-какие улучшения; поставил машину для очистки хлопка; стал акционером прядильной фабрики. Успех сопутствовал ему всюду. У него красивая жена, которую он очень любит; у него дети – чудесные, умные ребята, а счастлив ли он? Нет. Знал ли он когда-нибудь, что такое настоящее счастье, настоящее довольство жизнью? Нет. Никогда. В чем же дело? Он не знает. Ему так и не удалось получить ответ на этот вопрос. Он знает только одно: то, что приятно в среду, надоест в пятницу. И в тридцать восемь лет, когда на нем лежит такая ответственность, когда он добился таких успехов в делах, ему снова захотелось вернуться к живописи. Теперь раза три в неделю он торопится домой из Батон-Ружа и с раннего утра до позднего вечера сидит на тенистой веранде с кистью и красками. Ну что ж, по крайней мере в эти часы, проведенные перед мольбертом, можно забыть то, что некоторые именуют коммерцией, – а ведь на самом деле коммерция – это просто грязные махинации, основанные на принципе «хватай, не зевай»; по крайней мере можно отдохнуть настолько, чтобы на следующей неделе снова вернуться к этим грязным махинациям. Сейчас, как и много раз раньше, Смоллвуд спрашивал себя, почему бы ему не бросить дела? Вместо ответа он слабо улыбнулся. Он прекрасно знает почему. Он боится! Кто может гарантировать, что живопись не надоест ему так же, как надоели дела? А кроме того, у него хватало смелости признать, что ему нужны и успехи деловой жизни и это чувство удовлетворения, которое приносит с собой успех. Значит, надо идти на компромисс! Его душа ведет двойное существование, так пусть двоится и жизнь. Полного удовлетворения не добьешься, человеку приходится брать от жизни то, что она дает. Будь он такой же, как все остальные мужчины, он мог бы Путешествовать, увлекаться женщинами, пить. Разве мало таких мужчин? Они пытаются купить у жизни то чувство внутреннего довольства, в котором она отказывает им. Нет, это не в его вкусе. Свиней и без того достаточно. Стоит ли умножать собой их число?
А тут еще эта неприятность с Бэйли. Смоллвуд недовольно покачал головою. Хочется побыть наедине, а выходит, что надо раздумывать над этой дурацкой историей, которой вовсе не должно было случиться, но что поделаешь – Эд Бэйли стонет, лежа в постели с разбитой челюстью, а негр Бичер сидит под замком в подвале. Что ж, делать нечего. Надо только получше уладить это. Никаких эксцессов. Он не позволит ни бить, ни линчевать своих негров.