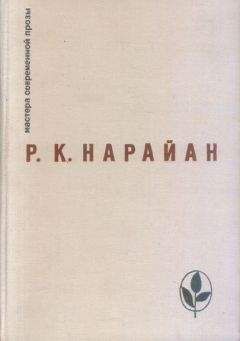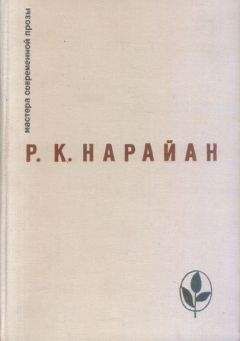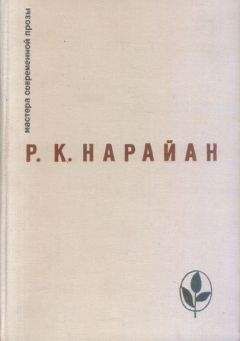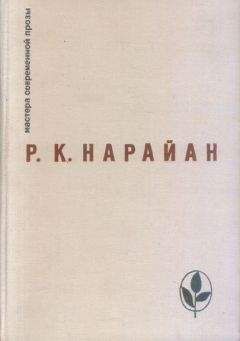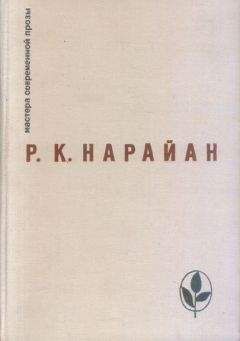Разипурам Нарайан - Мой дядя
По пятницам мы ходили в маленький храм в конце нашей улицы. Для меня это была интересная прогулка, потому что путь наш лежал мимо ярко освещенных лавок, где гроздья бананов, подкрашенные напитки, бутылочки с мятными леденцами и желтые бумажные змеи — все словно дрожало и переливалось от скрытого внутри огня.
Дядя и тетя вставали в пять часов утра и ходили по дому на цыпочках, чтобы не разбудить меня. Дядя первым делом набирал из колодца воды для хозяйства, потом поливал сад. Я просыпался от скрипа колодезного ворота и тоже бежал в сад, к дяде. В утреннем свете он представлялся мне волшебником. Не было большего счастья, чем смотреть в этот ранний час, как блестящие ручейки бегут по канавкам, проложенным от колодца. Оросительную систему в нашем саду дядя устроил сам. Рядом с колодцем он насыпал холмик, вырыл в нем яму, и, когда он выливал в нее ушат воды, ручеек бежал по склону холмика, куда он его направлял. Железным совком он регулировал подачу воды — то запрудит ручеек землей, то снова откроет. Я пускал по течению соломинки и листья, а то и муравьев, чтобы им быстрее было передвигаться вплавь. Иногда тайком от дяди я разрывал руками глиняный берег канавки и отводил воду куда-нибудь вбок для собственных надобностей.
В этом увлекательном мирке из зелени, земли, воды и глины я забывал на время о таких неприятных вещах, как домашние задания и школа. Когда из-за соседнего дома появлялось солнце, дядя кончал работу, щедро окатывал себя водой и весь мокрый шел в комнаты искать полотенце. Я бежал за ним, но тут тетя выносила из дому ведро с горячей водой и купала меня у колодца. А через несколько минут я уже оказывался в молельне и читал молитвы.
В молельне — это была всего-навсего большая ниша при кухне — всегда держался запах цветов и курений, а по стенам висели картины с изображением богов. Я очень любил эти картины: вот великий бог Кришна отдыхает на капюшоне гигантской кобры; вот Вишну синего цвета парит в пространстве, сидя на спине у священного орла Гаруды, и взирает на нас сверху.
Я смотрел на картины, и язык мой твердил молитвы, а в уме рождались всевозможные домыслы. Орел, он у Вишну вроде самолета? Лакшми стоит на лотосе. Как можно стоять на цветке лотоса, ведь он сломается. Из кухни доносился тетин голос: «Почему я не слышу, как ты молишься?» Я укрощал свою фантазию и минуты три читал вслух на санскрите, обращаясь к богу с лицом слона: «Гаджананам бхутаганади севитам…» Мне все хотелось спросить, что это значит, но, едва я замолкал, тетя подгоняла, перекрикивая шипение сковородки (распространявшей, кстати сказать, неотразимо соблазнительный аромат): «Ну что ж ты молчишь?» Тогда я поворачивался лицом к изображению Сарасвати, богини учености, что сидела со своим павлином на скале у тенистых кустов, и дивился, как это ей удается одной рукой играть на вине[1], другой перебирать четки и еще две руки оставались свободными, наверно затем, чтобы было чем погладить павлина. Я прилежно твердил: «Сарасвати намастубхиам…», что значило примерно: «О богиня учености, склоняюсь перед тобой…» К этой молитве я мысленно прибавлял и личную просьбу: «Сделай так, чтобы в школе меня не побили учителя или плохие мальчики, чтобы я прожил этот день благополучно». Хотя, как правило, ничего дурного со мной в школе не случалось, я неизменно думал о предстоящем школьном дне с ужасом. Учитель мой был всегда небрит и вид имел злодейский. На уроках он нюхал табак, и голос у него был хриплый, потому что табак вредно отразился на его голосовых связках; время от времени он грозил всему классу короткой шишковатой палкой. Я ни разу не видел, чтобы он кого-нибудь ударил, но облик его был страшен, и я сидел на своем месте, трепеща, как бы он не повернулся в мою сторону и не заметил меня.
Жизнь моя текла по заведенному дядей точному расписанию, и бездельничать было некогда. После молитвы мне полагалось выпить на кухне стакан молока. Этим временем пользовалась тетя, чтобы покритиковать мою одежду или голос. Либо она вдруг наклонялась ко мне и пристально вглядывалась в мое лицо. «Чего ты ищешь?» — спрашивал я, задирая голову, но она крепко сжимала мне лицо ладонями и рассматривала, пока не убеждалась, что глаза у меня не засорены и не припухли. «Ничего, мне просто показалось, — говорила она с облегчением, — только очень уж ты почернел. Нельзя столько жариться на солнце. И зачем только вас заставляют делать гимнастику на самом солнцепеке?»
Потом я поступал в распоряжение дяди — шел в зальцу, где он сидел, прислонившись головой к стене и предаваясь размышлениям. Очнувшись, он говорил: «Ну, собирай все, что нужно для школы, и складывай в сумку. Мелок очинил? Доска чистая? Что-нибудь еще тебе нужно?» Несмотря на мои уверения, что мне ничего не нужно, он хватал мою сумку, заглядывал в нее, засовывал пальцы на самое дно. Просто поразительно было, с какой легкостью он отрывался от молитвы, но он, очевидно, мог в любую минуту и вернуть себя в молитвенное состояние, поскольку все свое время делил почти без остатка между едой и благочестивыми размышлениями. Держа в поднятой руке мелок, он определял, хватит ли его еще на день. Иногда сам точил его на каменном полу, поучая меня: «Когда пишешь, держи его вот так да не откусывай кончик. Его еще на неделю хватит». Писать таким огрызком было трудно, болели пальцы, да к тому же учитель, если замечал, чем я пишу, дергал меня за ухо, отнимал мелок, а меня в наказание заставлял стоять на скамейке. Дома я не мог обо всем этом рассказать — я боялся, как бы дядя не вздумал натянуть рубаху и отправиться в школу для объяснений. Одна мысль о его появлении в школе страшила меня — вдруг мальчишки станут глазеть на него и смеяться, что он такой толстый. Так-то я и был вынужден обходиться огрызками мела. Когда же дядя решал, что весь мелок использован как надо, он открывал деревянный шкаф, доставал из него лакированную шкатулку с драконом на крышке, а из шкатулки — коробочку, а из коробочки — пачку длинных мелков. Брал в руку новенький мелок и задумывался; я же, угадав его намерение, подпрыгивал и выхватывал у него мелок с криком: «Не ломай, дай целый!» Иногда он снисходил к моей просьбе, иногда ломал мелок пополам, говоря: «Хватит и половины». Потом перелистывал мои учебники и снова собственноручно складывал в сумку. «Учись, мальчик, старайся, — приговаривал он, — а то не сумеешь постоять за себя в жизни и никто не будет тебя уважать. Понял?» — «Понял, дядя», — отвечал я, хотя что значит «уважать», было мне не очень-то ясно.
Однажды, вернувшись из школы, я сообщил:
— Нас завтра будут фотографировать.
Дядя, сидевший развалясь в кресле, вскочил на ноги и спросил:
— Кто? Кто будет вас фотографировать?
— У брата нашего учителя есть знакомый, у которого есть аппарат, и он нас сфотографирует.
— Только тебя или других тоже?
— Только нас, даже класс «Б» не возьмут, хоть они и просились.
Дядя просиял. Он позвал тетю и сказал ей:
— Слышала? Этого молодого человека завтра будут фотографировать. Одень его как следует.
Наутро дядя долго выбирал для меня одежду, а тетя особенно тщательно умыла меня и обрядила. На дорогу он дал мне несколько полезных советов:
— Не хмурься, даже если солнце будет в глаза. Старайся сделать приятное лицо. В наше-то время фотографировали только девушек, которым искали женихов, а нынче — кого угодно.
Едва я вернулся домой, он спросил нетерпеливо:
— Ну как, сошло?
Я швырнул сумку в угол и сказал:
— Ничего не было. Он не пришел.
— Кто?
— Знакомый брата нашего учителя. Кажется, у него аппарат сломался или еще что-то случилось, вот и нет фото.
Дядя помрачнел. А они-то с тетей стояли в дверях, ожидая моего триумфального возвращения! Он сказал сочувственно:
— Ты не огорчайся, найдем другого фотографа. Зря только не доберегли эту синюю рубашку до дивали. Ну да ничего, купим тебе новую.
Тетя сказала:
— Можно ее аккуратно сложить и убрать до праздника. Он ее не измазал.
— Я сегодня сидел очень смирно, чтобы ее не испортить, — сказал я, и это была правда. Я даже отказался играть с товарищами, боясь, как бы рубашка не смялась. Эта синяя рубашка имела свою историю. Дядя сам купил материю для нее у разносчика, который заверил его, что ткань заграничная и приобрести ее можно разве что у контрабандистов, посещающих некоторые деревни на побережье. Проторговавшись полдня, дядя купил три ярда ткани на две рубашки — себе и мне. Он послал за старым портным, мусульманином, с утра до ночи строчившим на машинке — настоящей зингеровской — на галерее одного дома на улице Кабира. Портной держался с дядей до крайности почтительно и отказался от предложения сесть, хотя бы на пол. Дядя удобно устроился в своем кресле, тетя стояла в дверях кухни, и оба они долго толковали о чем-то с портным, поминая имена, места и события, для меня чужие и непонятные. В конце каждой фразы портной называл дядю своим спасителем и низко ему кланялся. Когда пришло время снимать мерку, дядя встал, выпрямился во весь рост и дал портному ряд указаний относительно длины, фасона и пуговиц — сколько их требуется и каких (металлических, чтобы не ломались).