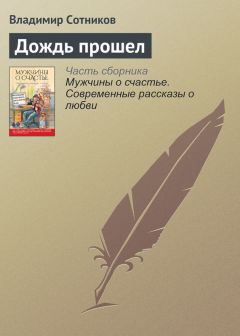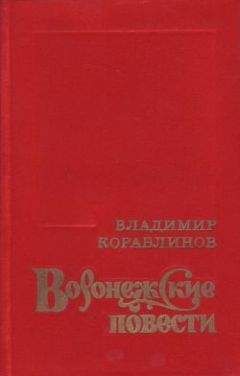Бернард Маламуд - Идиоты первыми
Из этих трех книг, а также книги «Шляпа Рембрандта» составлен сборник, который читатель держит в руках. В интервью незадолго до смерти Маламуд говорил, что намерен вернуться к новеллам, которых долго не писал. Жаль, что его замысел не осуществился: писатель умер в 1986 г., и остались только наброски книги, которую мы никогда не прочтем.
А. Зверев
Жалость
Пер. С.О.Митина
Дэвидоу, опросчик, вошел без стука, прохромал к единственному стулу и устало на него опустился. Не теряя времени, он извлек блокнот и приступил к делу. Бывший коммивояжер Розен, измученный, с отчаянием в глазах, неподвижно сидел на краю койки, заложив ногу за ногу. В чистой квадратной комнате, освещенной лампой в матовом шаре, было холодно и пустовато: койка, складной стул, столик, старый некрашеный комод вместо шкафа (да и кому он здесь нужен, шкаф?), в дальнем углу — маленькая раковина с оплывшим куском зеленоватого казенного мыла, запах его чувствовался на другом конце комнаты. Ветхая черная штора на единственном узком окошке была опущена донизу, и это удивило Дэвидоу.
— В чем дело, почему не поднимете штору? — спросил он.
Розен, не подававший до сих пор признаков жизни, вздохнул:
— Пусть остается так.
— Почему? На дворе светло.
— А кому это нужно, чтоб было светло?
— Ну а что же вам нужно?
— Свет мне не нужен.
С кислой миной Дэвидоу перебирал листки блокнота, сплошь покрытые мелкими закорючками. Наконец отыскал чистый листок и хотел уже что-то на нем нацарапать, но обнаружил, что в самопишущей ручке кончились чернила; тогда он выудил из жилетного кармана огрызок карандаша и стал точить его сломанным лезвием. Очинки сыпались на пол, но Розен этого не замечал. Казалось, он чем-то встревожен, чего-то ждет, напряженно к чему-то прислушивается, хотя Дэвидоу был твердо убежден, что прислушиваться абсолютно не к чему. И только после того, как Дэвидоу, повысив голос, уже с некоторым раздражением повторил свой вопрос, Розен чуть шевельнулся, назвал свое имя и фамилию. Хотел было и адрес сказать, но потом спохватился и только пожал плечами.
Дэвидоу оставил этот жест без внимания.
— Ну, давайте с самого начала, — кивнул он Розену.
— А кто знает, где начало? — Розен не сводил глаз с опущенной шторы. — Они здесь знают?
— Философия нас не интересует, — сказал Дэвидоу — Начните с того, где и как вы увидели ее в первый раз.
— Кого? — притворно удивился Розен.
— Ее, — буркнул Дэвидоу.
— Так если я еще даже не начал, откуда вы уже знаете про нее?
— Вы о ней раньше говорили, — устало ответил Дэвидоу.
Розен напряг память: когда его сюда привезли, ему задавали разные вопросы, и он в самом деле назвал ее имя, с языка сорвалось. Что-то у них здесь такое в воздухе, что ли: если он вспомнил, утаить невозможно. Должно быть, это тоже входит в лечение — если ты только вообще хочешь вылечиться…
— Где я увидел ее в первый раз? — пробормотал Розен. — Увидел там, где она все дни просиживала, — в комнатушке за лавкой, а лавка эта была такая дыра, что и заходить туда было нечего, я только зря время терял. Дай Бог, если я продавал им полмешка кофе в месяц. Это же не заработок.
— Заработок нас не интересует.
— А что вас тогда интересует? — с издевкой спросил Розен, копируя его интонацию.
Дэвидоу хранил холодное молчание.
Но Розен уже понимал, они все равно нащупали его больное место, и он стал рассказывать дальше:
— Мужу ее было лет сорок — такой Аксель Калиш, польский эмигрант. Попал он в Америку, работал, как слепая лошадь, и сколотил тысячи две-три. Купил на них паршивую бакалейную лавчонку в этом вонючем квартале — это же дохлое дело, откуда там быть покупателям! Он попросил у нашей фирмы кредит, и они послали меня — посмотреть, что и как. Я сказал — можно дать, просто мне стало его жалко. У него была жена, Ева, про нее вы уже знаете, и две чудные девочки, Фейга и Суреле, одной пять годиков, другой три, настоящие куколки, так я не хотел, чтоб они мучились. Я ему так и сказал, прямо, без фокусов: «Вот что, друг, вы оплошали. Эта лавка — могила, и вас в ней похоронят, если вы быстренько отсюда не выберетесь».
Розен тяжко вздохнул.
— Ну и что? — сказал Дэвидоу. Он все еще не записал ни слова, и это раздражало Розена.
— Ну и ничего. Не послушался он. А месяца через два сам захотел ее продать, так не нашлось покупателей. Ну и остался он с этой лавкой, и все они голодали. Даже расходов покрыть не могли. С каждым днем становилось все хуже и хуже, смотреть на них не было сил. «Да не будьте вы таким дураком, — говорю я ему. — Объявите себя банкротом». Но он не мог этого переварить: как это он потеряет все свои деньги? И потом, он боялся, что ему не найти работы. «Господи Боже мой, — говорю я ему, — да хватайтесь за что попало. Идите в маляры, в сторожа, в мусорщики, только удирайте отсюда, пока вы все в скелеты не превратились». Тут он уже со мной согласился, но до аукциона не дожил — в один прекрасный день упал и больше не поднялся.
Дэвидоу сделал в блокноте пометку.
— А как он умер?
— Ну, в этих делах я не специалист, — сказал Розен. — Это уже по вашей части.
— Так как же он умер? — настойчиво повторил Дэвидоу. — Расскажите в двух словах.
— Вы хотите знать — от чего он умер? Просто умер, и все.
— Отвечайте, пожалуйста, на вопрос.
— Сломалось в нем что-то. Вот и умер.
— Сломалось — что?
— Что ломается, то и сломалось. Жаловался он мне как-то на свою несчастную жизнь, взял меня за рукав — хотел, видно, что-то еще рассказать, вдруг лицо у него делается маленькое, с кулачок, и он падает замертво. Жена кричит, девочки плачут, а у меня сердце разрывается. Я же сам больной человек, и, когда он упал на пол, я сказал себе: «Розен, можешь сказать „до свидания“, этому парню крышка». Так я и сказал.
Розен поднялся с койки и в отчаянии зашагал по комнате, старательно обходя окно. Единственный стул занимал Дэвидоу, и Розену ничего другого не оставалось, как снова присесть на краешек койки. Это действовало ему на нервы. До смерти хотелось курить, но неприятно было просить сигарету.
Дэвидоу дал ему помолчать немного, потом в нетерпении стал перелистывать блокнот. А Розен все молчал — нарочно, чтобы его позлить.
— Так что же было дальше? — спросил наконец Дэвидоу.
Розен заговорил, и во рту у него был привкус золы.
— После похорон… — Он помедлил, облизнул губы. — Он был членом погребального общества, они его и хоронили, и потом, от него осталась страховка, что-то около тысячи долларов. Так вот, после похорон я ей сказал: «Ева, послушайте меня. Берите деньги, берите детей в охапку и удирайте отсюда. А лавку пускай забирают кредиторы. Что они с этого будут иметь? Ничего».
А она говорит: «Куда я денусь, ну куда — с двумя сиротами на руках, которых отец оставил помирать с голоду?»
Но я сказал ей: «Идите куда глаза глядят. Идите к родственникам».
Она засмеялась — так смеются люди, которые давным-давно позабыли, что значит радоваться, — и говорит: «Всех родственников у меня отнял Гитлер».
«Ну а у Акселя? — спрашиваю. — Ведь, наверно, у него где-нибудь есть дядюшка?»
«Никого у него нет, — говорит она. — Я останусь здесь, как хотел мой Аксель. Куплю на страховку разных товаров и налажу дело. Каждую неделю буду украшать витрину, и понемножку появятся покупатели…»
«Но, Ева, голубушка моя…»
«Миллионершей я стать не собираюсь. Мне бы только немножечко зарабатывать и растить девочек. Жить будем здесь, при лавке, — так я и торговать смогу, и за детьми приглядывать».
«Ева, — говорю я ей, — вы же интересная молодая женщина, вам всего тридцать восемь лет. Не губите вы свою жизнь в этой лавке. И не швыряйте в уборную — извините за выражение — ту несчастную тысячу долларов, что осталась вам от покойного мужа. Поверьте мне, я-то знаю, что это за штука — лавка вроде вашей. У меня опыт — тридцать пять лет, и я могилу нюхом чую. Перебирайтесь вы лучше на другую квартиру и ищите себе работу. Вы же еще молодая. Пройдет время, встретите хорошего человека, выйдете замуж».
«Нет, Розен, только не я, — отвечает она. — Замуж мне уже не выйти. Кому нужна бедная вдова с двумя детьми?»
«Ну, это вы напрасно».
«Нет, — отвечает, — я точно говорю».
В жизни моей не видел, чтобы у женщины такая горечь была на лице.
«Зря вы это, — говорю, — зря».
«Нет, Розен, не зря. За всю свою жизнь я ничего хорошего не видела. Всю свою жизнь я только мучаюсь. И лучше уж не будет. Такая моя жизнь».
Я говорю — будет, она говорит — не будет. Ну что я мог поделать? Я же сам больной человек, у меня одна почка вырезана и еще кое-что похуже, только я не хочу про это рассказывать. Я говорю, а она меня не слушает, так я перестал. Кто это в силах — переспорить вдову?