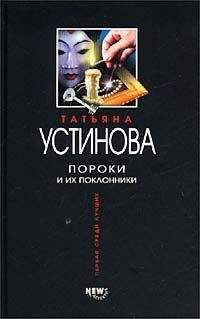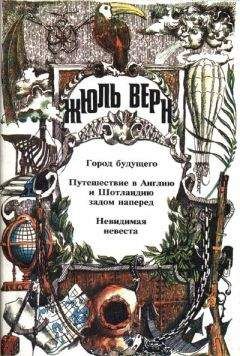Тайко Хирабаяси - Кисимодзин
Руки и ноги девочки, по-дневному подвижные, были как грелки — теплые, почти горячие. Ребенок то и дело раскрывался, сползал с футона. С этим было невозможно бороться — как ни обнимала, как ни прижимала Кэйко девочку к себе, одно-два неуловимых движения, и вот уже Ёсико снова оказывалась на татами, и соломенная циновка оставляла полосатые отпечатки у нее на лбу.
Примерно в это же время Кэйко открыла для себя, что спящий ребенок, подобно какому-нибудь сказочному чудовищу, меняющему облик днем и ночью, отличается от бодрствующего. Засыпая, девочка обмякала, как если бы вдруг ее тело стало желеобразным, и буквально расплывалась на руках у Кэйко.
Посреди ночи, в темноте, сквозь сон Кэйко почувствовала рядом со своей рукой теплую руку мужа. Она ощутила, как бьется, бежит по сосудам его кровь. В ее полусонном сознании промелькнула мысль, что эту ночь — ночь, когда они впервые легли, разделенные ребенком, — ее муж тоже переживает как своего рода первую брачную ночь; когда они ложились, это настроение заполнило всю комнату.
Кэйко поняла, что им — до сих пор просто мужу и жене — придется теперь осмыслить свое совместное существование в новом качестве: отца и матери. Она не сомневалась, что только так людям удается сохранить глубину и силу чувств после того, как они превращаются из супругов в родителей. Бессознательно она потянулась к большой и тяжелой, такой знакомой руке…
Однако ее пальцы коснулись нежной ручки ребенка.
На мгновение ее охватил ужас, но в ту же секунду она поняла, что не ошибиться не могла.
Обстоятельно обдумав все еще раз, она пришла к выводу, что, даже когда перепутать их будет невозможно, ей, скорее всего, не удастся на эмоциональном уровне разделить Ёсико и Рёдзо и воспринимать их независимо друг от друга. Похоже, за долгие годы совместной жизни у Кэйко возникла безотчетная привычка, которая и сработала в данном случае: любое физическое прикосновение она воспринимала исключительно через призму чувств к мужу, она была настроена именно на его — ни на чью больше — волну. Это вполне можно было счесть прихотью. Или эгоизмом, а может быть, даже в некотором роде душевным увечьем. Но факт оставался фактом — в сердце Кэйко было место только для одного человека. И теперь перед ней неизбежно вставал вопрос: «Муж или ребенок? Кто займет это единственное место?» И вопрос этот повергал ее в уныние.
В тот день, как и во все предыдущие дни, Кэйко вскипятила большой чайник и принялась обтирать Ёсико. Она испытывала к девочке смешанные чувства, но ощущала, что с каждым днем все больше и больше узнает Ёсико, собирает знание о ней буквально по крупицам — и это было не меньшим блаженством, чем блаженство любви. Она смотрела на себя со стороны, понимая, что торопится, пытаясь за какие-то жалкие десять дней постичь все то, что матери постигают медленно и постепенно с момента рождения ребенка и в течение всех последующих лет. К этому времени Ёсико уже начала звать ее мамой, впрочем, не вкладывая в это какой-то особый смысл. Она просто иногда выкрикивала, будто вспомнив, что именно так и надо поступать:
— Мамочка!
И каждый раз Кэйко внутренне вздрагивала, будто ее застали врасплох, еще не вполне готовой. Но в то же время не было ничего чище и невинней, чем эти прекрасные звуки, сравнимые разве что с пением певчих птиц.
— Да, малыш, чего тебе? — отвечала она.
И каким, однако, неблагозвучным казался ей в этот момент собственный голос.
Кэйко чувствовала себя так, будто отзывается на срочный и неожиданный вызов начальника, и вся ситуация представлялась ей комичной до неприличия, но она ничего не могла с собой поделать.
Если голос, призывавший Кэйко, был живым, то ее собственный оказывался всего лишь отзвуком, эхом. Уловив в матери ответное движение, девочка поднимала на Кэйко свои сияющие глаза, словно желая удостовериться, что ей не показалось. Этот взгляд был стремительней полета пчелы, он моментально ослеплял Кэйко. Она, в свою очередь, тоже смотрела на девочку, но эти два взгляда — один, идущий снизу, и второй, ответный, почему-то никогда не пересекались, как если бы каждый из них отклонялся в сторону на середине пути. При этом Кэйко неизменно чувствовала себя виноватой.
Обычно в эти секунды она вспоминала слова Такэо Арисима [3], который, перефразируя известную поговорку «Не родив сына, не ценишь родительскую любовь», говорил: «Не родив сына, не ценишь сыновью любовь».
Впрочем, и этот вариант поговорки, казалось, не имел никакого отношения к жизненному опыту Кэйко. Раздумывая над этим, она не могла не признаться себе в том, что для нее самой ребенок — это прежде всего некий посредник. Она чувствовала, что только ребенок сможет помочь ей стать кем-то, кого она не умела назвать, но перед кем благоговела. Должно быть, поэтому она постоянно испытывала острое чувство стыда. Более того — оставаясь с ребенком один на один, она ощущала что-то вроде страха.
Но чем же был этот таинственный предмет поклонения? Не родитель и не ребенок — что-то другое, что она условно называла «третья сущность» и затруднялась сформулировать ускользающую суть этого «чего-то» даже для себя самой. Единственное, в чем она была уверена, что это предчувствие становления набухается, поднимает в ее груди, как поднимается дрожжевое тесто; пред ней открывалась дверь к какому-то доселе недоступному, восхитительному Знанию.
Как обычно протирая девочку теплым влажным полотенцем сверху вниз, Кэйко дошла до детских пухленьких ляжек и до той, находящейся между ними, похожей на недозрелый персик симпатичной штучки, пересеченной вертикальной, как у персика же, бороздкой.
Кэйко уже не раз думала о том, что материнство, пусть даже такое новоиспеченное, как у нее, дает право и одновременно обязывает, а говоря иначе, вынуждает знать и понимать все, что происходит с детским телом. Впрочем, у нее были некоторые сомнения насчет того, на все ли части тела распространяется это материнское право-обязанность.
Однако в этот день, добравшись до маленьких ляжек и протирая их влажным полотенцем, она вдруг заметила, что в такт ее движениям персик вдруг лопнул по серединке, и в открывшейся трещинке Кэйко увидела что-то красное, как если бы там внутри все было затянуто алым шелком; она смотрела на это, не в силах отвести глаз. В ней росло непреодолимое, эгоистичное желание постичь истинную суть того, что именуется «женщиной», с помощью этого маленького тела, еще не знающего стыда.
Трудно поверить, но, хотя ей было уже почти сорок, Кэйко не имела четкого представления о физиологии женского тела. Ну разве не смешно, что люди стесняются одной мысли о том, что им придется произносить или писать слово, обозначающее орган, без которого они не смогли бы отправлять свои самые естественные потребности? Большинство из них и вовсе не знает этого слова, и тем не менее, все отлично этим органом пользуются.
Так или иначе, но то извращенное общество, частью которого являлась Кэйко, скрывало от нее далее это невинное знание.
— Ёсико-тян, у тебя тут грязно. Давай-ка, сегодня я тебе тут помою, — с этими словами Кэйко попыталась просунуть полотенце между пухлыми ножками.
— Не надо, щекотно! — взвизгнула Ёсико и с неожиданной для такой маленькой девочки силой сжала ноги.
— Ну хватит! Сегодня мы обязательно там должны помыть.
— Нет! — Ёсико явно не собиралась уступать и по-прежнему сжимала ноги. Должно быть, в ней заговорил врожденный женский инстинкт самосохранения. В ее протесте таилось что-то древнее и священное.
Глуповатая гримаса, свойственная родителям в случаях откровенного неповиновения со стороны ребенка, сползла с лица Кэйко. Она посмотрела девочке прямо в глаза и, сама того не сознавая, издала неестественный смешок.
— Послушай, Ёсико-тян. Я тебе дам кое-что вкусненькое. — Говоря это, она удивлялась сама себе, удивлялась тому, как низко она пала. — Раздвинь, пожалуйста, ножки. Совсем чуть-чуть. Ладно? Ёсико-тян.
— Отстань, глупая!
Во время этого спора с обеих незаметно слетел тонкий слой наносных материнско-дочерних чувств, и вот уже лицом к лицу — два абсолютно чужих человека.
— Нравится тебе или нет, мама все равно тебя сейчас помоет, поняла?! — с досадой воскликнула Кэйко и, с трудом просунув пальцы между плотно сжатыми ляжками девочки, в каком-то исступлении потянула их в стороны.
Ёсико вывернулась, упала на мокрый дощатый настил и разрыдалась.
И тут словно пелена спала с глаз Кэйко, она посмотрела вниз, туда, где плакал ребенок. Безудержный плач Ёсико, как ледяной ветер, обжег ей уши.
Она не пыталась успокоить девочку, просто стояла в скорбном оцепенении, пытаясь понять, что же в конце концов происходит в ее душе.
«О, этот бес самоутверждения, это женское самораспространение, безудержная экспансия. Ради нее даже несчастное дитя было сегодня принесено в жертву, и сколько еще крови прольется в будущем…»