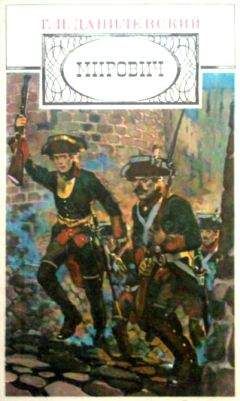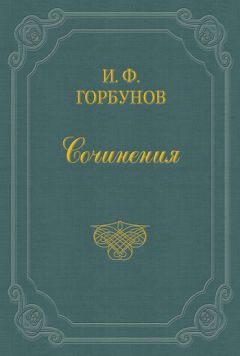Григорий Данилевский - Беглые в Новороссии
— Вылез я из камыша, — продолжал, хохоча, веселый вожак, — вылез, смотрю — человек сидит над водоспуском, плачет, охает, все озирается и хватается за голову. Шапку снял и уж ноги свесил над омутом… Ждал я, что будет, а ты все ближе к омуту, ближе да плачешь. «Тю-тю, дурный!» Ты и остановился. Расскажи же, брат, как это ты задумал, когда жену-то твою порешили, топиться в панской речке?
— Что ж, дядько, — начал Левенчук, — скажу тебе. Я ходил за овцами у пани; ну, ходил и ходил! скука там смертная была. Раз и зовет меня старая пани: «Харько, я тебя женить хочу!» — «Воля ваша, говорю, пани». — «Да ты не знаешь, на ком?» — «Не знаю». — «На Варьке, на дочке Петриковны! хочешь?» — «Воля ваша!» говорю, а у самого сердце так и обдало! А Петриковна была ключницей у нашей барыни, проворовалась, ее и сослали на птичню. Пила запоем, с горя, эта старая мать Варькина. Повенчали меня с ее дочкой в числе других шести пар, разом. Барыня наша уж эти свадьбы всегда справляла зауряд, осенью, перед филипповками. Не знались мы и ни разу до свадьбы с Варькой, не говорили ни слова. Известное дело, я пас овец, все в степи и редко домой наведывался. Повенчали нас, посадили за стол, а потом спать положили…
Харько помолчал.
— Ну, дяденька, скажу я прямо: так стыдно было мне на свою жену глядеть, что больше году мы и вместе жили, и за стол есть садились, и уже любить-то я ее начал, а говорить еще по душе не говорили и не глянули друг другу в глаза прямо; все больше молчишь или перекинешься так, пустым словом, да и глаз от земли не поднимая. И рассмотрел я ее, правда, уж через год. Пас я, как всегда, овец отару; бежит ко мне соседская девочка: «Дядько Харько! — кричит, — тетка Варька сына тебе родила!» Не помню я, как допас овец до вечера; напоил их, загнал их в сарай, вбежал в хату, а в хате ладаном накурено, соседи чинно сидят, люлька висит у потолка, а Варька, лежа, качает с лавки ребенка. Я кинулся к люльке, она приподнялась. «Харитон! — говорит шепотом, — это наше дитя!» Мы взглянули через люльку друг на друга прямо и, склонясь над дитятею, заплакали и тихо поцеловались. С той поры мы на людей уж стали похожи. Люди радовались, и мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила наша пани в город и купила новую молотилку, такую машину, с чугунным барабаном. А в прошлом году у нас сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, поставили на току в сарае и стали молотить лошадьми, а бабы солому отгребали. Мазали эту машину дегтем. Раз и моей Варьке загадали с другими идти до той молотилки; а сама наша пани всегда при работах стоит. Пока запрягали коней, пока пани от горниц приплелася, бабы и давай на выдумки. Та на коня верхом лезет, та в снопах перекидывается, а моя и говорит: «Где, бабы, мазница с дегтем? Давайте себе сапоги помажем!» — «Вон, говорят, под колесом!» Она и полезла. Подставила один сапог, смазала; стала и другой мазать. А тут кричат: «Пани идет, пани!» Машинист у нас кривой, подлец такой был, со злобы, что ли, повернул барабан, лошади дернули, колеса завертелись, а Варька рукавом и попала под чугунное колесо. Бабы кричат: «Стой, стой!» А он кричит на погонщиков: «Бей, гони коней! барыня идет! мы стоим ничего не делаем». А Варька боится крикнуть, притаилась… Машина пошла… Ох, дядько! И вспомнить страшно… Застонала она, что-то захрустело… Прибежала опять ко мне в степь та же соседкая дочка. Орет-голосит на всю степь: «Ты тут овец все, дядько, пасешь, а там уж твоей Варьки на свете не стало!» Бросил я овцу и прибежал на хутор. «Где, говорю, где?» — «На панском дворе!» Прибежал я в самую панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежит, и сама старая пани простоволосая над нею мечется… Куда тебе! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную, в куски! Ох, дядюшка, страшно!.. Я как глянул, так и сам упал… Отлили водою меня… Похоронили ее, голубочку, а мне свиту новую справили. И впрямь: пани тут, пожалуй, сама и не виновата. Да уж я, как встретился с машинистом, глянул на него, а он глаза понурил, стал и говорит мне: «Иди своею дорогою, не смотри на меня: ты, как собака, злой». Зашел я в шинок как-то. Кучер наш гулял. Перепоил нас. Тут и машинист храбрился. Я и задумал недоброе. Уж не смог я эту овцу в степи больше пасти. То, бывало, ходишь день-деньской по жаре, печешься, есть-пить хочется, вода в баклаге теплая, прогнившая, овца собьется в кучу… Сядешь; кругом ни души, — одно марево огнями переливается да овражки свистят. Скука… руки бы на себя наложил! Делать, работать не хочется; да и что сработаешь, ходючи без устали? Разве ложку какую выдолбишь! А все прежде жилось. Вечер-то, вечер! хата! — так и манят. Придешь, и все забыл. Ляжешь возле нее, прижмешься к ней, а в хате чисто, травами сухими пахнет, постель белая; она смеется, шепчет тебе сладким шепотом — и до утра иной раз не спишь! Ну, меня и повело, как Варьку порешили. Ох, дядько… боюсь! Не допытывай меня… Ну, что же?., так-то вот раз нашли машиниста под селом убитого; волки уж и голову ему объели. Порешить себя тут задумал и я… Сперва удавиться хотел, а потом утопиться. Люди меня усовещивали; суд допытывал. Это я уж в третий раз над омутом-то сидел! Грешное дело: и спасибо тебе, Василь Иваныч, что ты меня избавил!.. А все как-то жутко еще, и мерещится все недоброе… Без руки лежит, вся потрощенная, покровавленная на панской молотилке… А собаке — собачья и смерть! Не я его убил. Должно быть, чужой кто. Он все шатался по любовницам по ночам. Ну, а тут уж прямо меня подозревать стали, люди начали обходить меня. Затаскали по допросам. Пани в солдаты погрозилась отдать. Я и сам стал как неживой. Как собака голодная мыкался. Много наших разбрелось из хутора в разные годы, а сам не решился. Все думал: как уйти? И в голову не прибиралось.
— Вот постой, постой, Хоринька, как придем да как помещу я тебя в неводчики, при рыбных ловлях или в какую косарскую артель, — добром помянешь, любезный человек! А вот я так иначе бегал…
— Как же ты, дядюшка, бегал? — спросил уже несколько спокойнее, как бы облегча душу, Левенчук, помолившись вслух на восход солнца впотьмах и ложась спать у окончательно потухшего костра.
— А вот как я убежал впервое, — начал Милороденко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь под кустом, — моя сказка, простой ты человек, короче. Видишь ли, ты еще теперь настоящий хохол, а я уж и тогда был натертее, — в лакеях, значит, обретался и по-господски говорил как следует. Ну, скажу тебе по правде, ничто меня всегда так не манило, как, выходит, крупичатый хлебец, то есть, значит, бабье дело. Ну, простота, черт меня и попутал до конца! Прошлялся по Таганрогу; а тут и изловили меня полицейские на базаре; домой переслали, вздули, брат, это меня опять по всем порядкам. А тут опять душа пить попросила… Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина… да!
— Что ты? Ах, братец ты мой! — даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул на корточки.
— Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, чего смотришь так? Вот то-то и дело, что ничего! — продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко, — это почти то же самое дело, никакой разницы нету, кроме опчей, значит, чистоты… Просто, ровно ничего! Сперва я хаживал к барышне в окошко; в саду видалися; воду, зонтики ей туда носил; а там дело узнали, заперли меня; барин в кандалы хотел заковать, сослать задумал; да увезла она меня к своей матери: там в приживалках у какой-то енеральши мать эта жила. Выкрала меня барышня из амбара. Выли, выли старухи хором, совещались, душечка ты моя, с разными господами и чиновниками и решили нас, братец, попросту, тоже повенчать. Да! чего ты это смотришь? именно повенчать; мне выхлопотать обещали вольную. А барин и заартачился. «Не дам, говорит, она наш род опозорила, с холуем повязалась, так пусть останется моею холопкою-крестьянкою, коли венчаться хочет!» Ну, нас не повенчали. Так мы и остались. Зажили это мы с нею, не скажу весело, а сносно. По богомольям ездили; я в манишках, в перчатках, как следует, хожу; трубку при господах курю, даже фрак мне справили! Только и стала меня ревновать эта моя барыня-подруга. И не буду я тебе, душа, много рассказывать. Один-таки пьяный поп нас повенчал. Любовью да ревностью задала тогда мне моя жена за год такой копоти, что я и призадумался. Оно, конечно, я спал на пуховиках, ел сытно; наш же Сережка, с которым я прежде в бабки играл, кушать нам подавал. Я ему кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А он ни гу-гу; в сенях только иной раз кулак, шутник, покажет. Жили мы в городе, на краю, на квартире у дьяконицы. Иной только раз завалишься в кабачок и закутишь с мещанами и с мужичьем; деньги были. Я вакштаф[4] курил, говорю тебе, в карты в прифиранец с чиновниками вывчился, в халате сидел по целым дням. А она все меня целует да мучит ревностью. «Ты, говорит, Матрену нашу прежде любил, с Парашкой знался! Правда это? Признайся, говорит, признайся!» Да все грызет и плачет. Опротивела она мне; стал я и бивать ее подчас. А люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обокрадь ее, да и убежи!» Ну, красть я не крал, а бить, — отпорол единожды в спальне нагайкою; сказано, опротивела мне, так за косы ее и таскал, бимши. Она ничего, стала тише, руки мне целует… А тут я и получил из Таганрога записочку от одной красотки: там в модницах жила, и мы в бегах знались. Взманула меня опять волюшка. «Эх, — подумал я, — бес вас забери, похувики да супы, да лежанье одно, да панские россказни!» Стал я больно суров… У! натерпелась она тогда от меня! А на втором году я и дал тягу, уж окончательно, да с той поры ее и не видел.