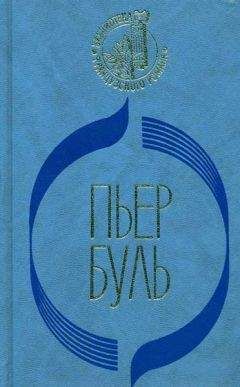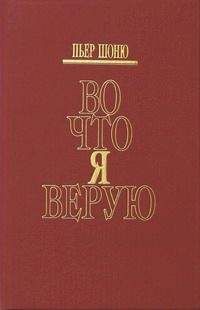Эдгар По - Бон-бон
Я мог бы здесь – если б мне того захотелось – подробно остановиться на экипировке и на других привходящих обстоятельствах, касающихся внешней стороны метафизика. Я мог бы намекнуть, что волосы нашего героя были острижены коротко, гладко зачесаны на лоб и увенчаны белым фланелевым коническим колпаком с кисточками, что его гороховый камзол не следовал фасону, который носили обычные restaurateurs того времени, что рукава были несколько пышнее, чем дозволяла то господствующая мода, что обшлага их, в отличие от того, что было принято в ту варварскую эпоху, не были подбиты материей того же качества и цвета, что и само одеяние, но были прихотливо отделаны переливчатым генуэзским бархатом, что его ночные туфли, изящно украшенные филигранью, были ярко-пурпурного цвета и их можно было бы принять за изготовленные в Японии, если б не утонченная заостренность их носов и бриллиантовый блеск гаруса и шитья, что его штаны были из желтой атласной материи, называемой aimable[34], что его лазурно-голубой плащ, напоминающий своей формой халат, весь в малиновых узорах, небрежно струился с его плеч, подобно утреннему туману, и что tout ensemble[35] вызвало следующие замечательные слова Беневенуты, импровизатриссы из Флоренции: «Быть может, Пьер Бон-Бон и явился к нам точно райская птица, но скорее всего он – воплощение райского совершенства». Я мог бы, повторяю, пуститься в детальное обсуждение всех этих предметов, если б я того захотел, – однако же я воздержусь; я оставляю чисто личные подробности авторам исторических романов – голый факт по своим этическим достоинствам куда выше таких деталей.
«Войти в маленькое Cafe в cul-de-sac Le Febvre означало», писал я выше, «войти в sanctum гения», но только будучи гением можно было надлежащим образом оценить достоинства этого sanctum. У входа, исполняя роль вывески, раскачивался огромный фолиант, на одной стороне которого была изображена бутылка, а на другой – pate. На корешке виднелись большие буквы «Oeuvres de Bon-Bon»[36]. Эта аллегория утонченно передавала двоякость занятий владельца.
Переступив порог, можно было тотчас окинуть взглядом вою внутренность дома. Длинная низкая комната старинной архитектуры составляла единственное помещение этого Cafe. В углу стояла кровать метафизика. Вереница занавесей и полог а lа Grecque[37] придавали ей классический, а вместе с тем и уютный вид. В углу, противоположном по диагонали, объединились в дружное семейство кухонные принадлежности и bibliotheque[38]. Блюдо полемики мирно покоилось на кухонном столе. Тут – полный противень новейшей этики, там – котел melanges in duodecimo[39], здесь – сочинения германских моралистов в обнимку с рашпером. Вилку для подрумянивания хлеба можно было отыскать рядом с Евсевием[40], Платон прикорнул отдохнуть на сковороде, а современные писания были насажены на вертел.
В остальном Cafe de Bon-Bon, пожалуй, мало чем отличалось от обычных restaurants того времени. Прямо напротив двери зиял очаг, справа от него в. открытом буфете виднелись устрашающие ряды бутылочных этикеток.
Здесь, суровой зимой 18– года, около полуночи, Пьер Бон-Бон, выслушав замечания соседей по поводу его странных наклонностей и выпроводив их из своего дома, – здесь, повторяю, Пьер Бон-Бон запер за ними с проклятьем дверь и погрузился, в не слишком мирном расположении духа, в объятья кожаного кресла перед вязанками хвороста, пылавшими в очаге.
Стояла одна их тех страшных ночей, которые выпадают раз или два в столетие. Снег валил с яростью, а весь дом до основания содрогался под струями ветра, которые, прорываясь сквозь щели в стене и вырываясь из дымохода, вздували занавеси у постели философа и приводили в беспорядок все хозяйство его манускриптов и сотейников. Внушительный фолиант качающейся снаружи вывески, отданной на ярость бури, зловеще скрипел под стонущий звук своих крепких дубовых кронштейнов.
В настроении, повторяю, отнюдь не миролюбивом, метафизик пододвинул свое кресло к обычному месту у очага. За день произошло много досадных событий, которые нарушили безмятежность его размышлений. Взявшись за des oeufs a la Princesse[41], он нечаянно состряпал omelette a la Reine[42]. Открытие нового этического принципа свелось на нет опрокинутым рагу, а самой последней, но отнюдь не самой малой неприятностью было то, что философу поставили препоны при заключении одной из тех восхитительных сделок, доводить которые до успешного конца всегда служило ему особой отрадой. Однако, наряду со всеми этими необъяснимыми неприятностями, в приведение его ума в раздраженное состояние не преминула принять участие и известная доля той нервной напряженности, на создание которой столь точно рассчитана ярость неистовой ночи. Подозвав легким свистом своего огромного черного пуделя, о котором мы упоминали ранее, и устроясь с недобрым предчувствием в кресле, он невольно окинул подозрительным и тревожным взглядом те отдаленные уголки своего жилища, непокорные тени которых даже красное пламя очага могло разогнать лишь частично. Закончив осмотр, точную цель которого, пожалуй, он и сам не понимал, философ придвинул к себе маленький столик, заваленный книгами и бумагами, и вскоре погрузился в правку объемистой рукописи, предназначенной к публикации на завтра.
Бон-Бон был занят этим уже несколько минут, как вдруг в комнате раздался внезапно чей-то плаксивый шепот:
– Мне ведь не к спеху, monsieur Бон-Бон.
– О, черт! – возопил наш герой, вскакивая на ноги, опрокидывая столик и с изумлением озираясь вокруг.
– Он самый, – невозмутимо ответил тот же голос.
– Он самый? Кто это он самый? Как вы сюда попали? – выкрикивал метафизик, меж тем как взгляд его упал на что-то, растянувшееся во всю длину на кровати.
– Так вот, я и говорю, – продолжал незваный гость, не обращая никакого внимания на вопросы. – Я и говорю, что мне торопиться ни к чему. Дело, из-за которого я взял на себя смелость нанести вам визит, не такой уж неотложной важности, словом, я вполне могу подождать, пока вы не кончите ваше Толкование.
– Мое Толкование – скажите на милость! – откуда вы это знаете? Как вы догадались, что я пишу Толкование? – О, боже!
– Тсс… – пронзительно прошипел гость; и, быстро поднявшись с кровати, сделал шаг к нашему герою, меж тем как железная лампа, подвешенная к потолку, судорожно отшатнулась при его приближении.
Изумление философа не помешало ему подробно рассмотреть одежду и наружность незнакомца. Линии его фигуры, изрядно тощей, но вместе с тем необычайно высокой, подчеркивались до мельчайших штрихов потертым костюмом из черной ткани, плотно облегавшим тело, но скроенным по моде прошлого века. Это одеяние предназначалось, безусловно, для особы гораздо меньшего роста, чем его нынешний владелец. Лодыжки и запястья незнакомца высовывались из одежды на несколько дюймов. Пара сверкающих пряжек на башмаках отводила подозрение о нищенской бедности, создаваемое остальными частями одежды. Голова незнакомца была обнаженной и совершенно лысой, если не считать весьма длинной queue[43], свисавшей с затылка. Зеленые очки с дополнительными боковыми стеклами защищали его глаза от воздействия света, а вместе с тем препятствовали нашему герою установить их цвет или их форму. На этом субъекте не было и следа рубашки; однако на шее с большой тщательностью был повязан белый замызганный галстук, а его концы, свисающие строго вниз, придавали незнакомцу (смею сказать, неумышленно) вид духовной особы. Да и многие другие особенности его наружности и манер вполне могли бы подкрепить идею подобного рода. За левым ухом он носил некий инструмент, как делают это нынешние клерки, похожий на античный стилос. В нагрудном кармане сюртука виднелся маленький черный томик, скрепленный стальными застежками. Эта книга, случайно или нет, была повернута таким образом, что открывались слова «Rituel Catholique»[44], обозначенные белыми буквами на ее корешке. Печать загадочной угрюмости лежала на мертвенно-бледной физиономии незнакомца. Глубокие размышления провели на высоком лбу свои борозды. Углы рта были опущены вниз с выражением самой покорной смиренности. Сложив руки, он подошел с тяжким вздохом к нашему герою, и весь его вид предельной святости не мог не располагать в его пользу. Последняя тень гнева исчезла с лица метафизика, когда, завершив удовлетворивший его осмотр личности посетителя, он сердечно пожал ему руку и подвел к креслу.
Было бы, однако, серьезной ошибкой приписать эту мгновенную перемену в чувствованиях философа одной из тех естественных причин, которые могли оказать здесь влияние. В самом деле, Пьер Бон-Бон, в той мере, в какой я был способен понять его характер, менее кого бы то ни было мог поддаться показной обходительности. Невозможно было предположить, чтобы столь тонкий наблюдатель людей и предметов не раскусил бы с первого взгляда подлинный характер субъекта, явившегося злоупотреблять его гостеприимством. Помимо всего прочего, заметим, что строение ног посетителя было достаточно примечательным, что он с легкостью удерживал на голове необычайно высокую шляпу, что на задней части его панталон было видно трепетное вздутие, а подрагивание фалд его сюртука было вполне осязаемым фактом. Судите же поэтому сами, с чувством какого удовлетворения наш герой увидел себя внезапно в обществе персоны, к которой он всегда питал самое безоговорочное почтение. Он был, однако, слишком хорошим дипломатом, чтобы хоть малейшим намеком выдать свои подозрения по поводу реального положения дел. Показывать, что он хоть сколько-нибудь осознает ту высокую честь, которой он столь неожиданно удостоился, не входило в его намерения. Напротив, он хотел вовлечь гостя в разговор и выудить у него кое-что из важных этических идей, которые могли бы, получив место в предвкушаемой им публикации, просветить человеческий род, а вместе с тем и обессмертить имя самого автора; идей, выработать которые, должен я добавить, вполне позволял посетителю его изрядный возраст и его всем известная поднаторелость в этических науках.