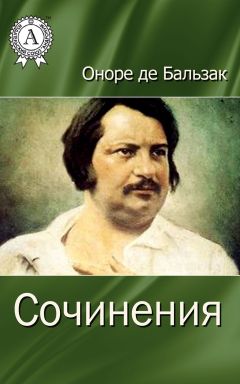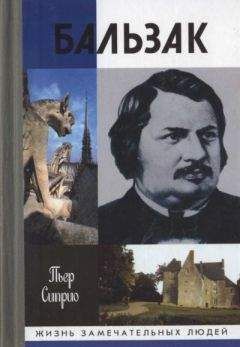Оноре Бальзак - Пьер Грассу

Обзор книги Оноре Бальзак - Пьер Грассу
Оноре де Бальзак
Пьер Грассу
Подполковнику артиллерии Периола — в знак искреннего уважения автора.
БальзакВсякий раз, когда вы посещаете выставку живописи и ваяния, устроенную на новый лад, — как это вошло в обычай после революции 1830 года, — не охватывает ли вас чувство растерянности, уныния и скуки при виде длинных, загроможденных галерей? С 1830 года Салона больше не существует. Лувр был вторично взят приступом художниками; и они там утвердились. В прежнее время, выставляя действительно избранные произведения искусства, Салон пользовался высоким уважением. Среди двухсот отобранных картин публика еще раз производила выбор, и неведомые руки венчали лаврами лучшее произведение. Вокруг картин разгорались страстные споры. Оскорбления, которыми осыпали Делакруа и Энгра, способствовали их известности не менее, чем славословия фанатичных приверженцев. Ныне вокруг произведений, выставленных на этом художественном базаре, не разгораются страсти ни посетителей, ни критики. Зрителям самим приходится заниматься отбором, который прежде был возложен на жюри, и этот труд утомляет их; когда же выбор сделан, выставка закрывается. До 1817 года принятые картины развешивались не далее двух первых колонн длинной галереи старых мастеров, а в нынешнем году они, к немалому изумлению публики, заполонили всю галерею.
Исторический жанр, жанр в узком смысле этого слова, станковая живопись, пейзаж, натюрморт, анималистическая живопись и акварельная — по всем этим семи видам живописи вряд ли следует выставлять более чем по двадцати картин, достойных обозрения публики, которой трудно сосредоточить внимание на большем количестве произведений. По мере увеличения числа художников жюри становилось более взыскательным. Но все было потеряно, как только Салон захватил всю галерею. Салону следовало бы занимать одну и ту же раз и навсегда установленную площадь, где все виды живописи были бы представлены лучшими произведениями. Десятилетний опыт доказал преимущество прежнего принципа отбора. Теперь вместо поединка перед вами свалка: вместо торжественной выставки — беспорядочный базар, вместо отобранного — все целиком. И что же? Истинный художник здесь только проигрывает. «Турецкая кофейня», «Дети у фонтана», «Казнь на крючьях», «Иосиф» Декана, выставленные в большом Салоне вместе с сотней лучших картин этого года, больше принесли бы ему славы, нежели двадцать его полотен, затерявшихся среди трех тысяч картин, занявших шесть галерей. И как ни странно, с тех пор как двери открылись для всех, повсюду заговорили о непризнанных гениях. Двенадцать лет назад, когда «Куртизанка» Энгра и «Куртизанка» Сигалона, «Медуза» Жерико, «Резня на острове Хиос» Делакруа, «Крещение Генриха IV» Эжена Девериа получили признание знаменитостей — строгих ревнителей искусства и возвестили миру, вопреки неодобрительным отзывам критики, о существовании молодых дарований, не раздалось ни одной жалобы. Теперь же, когда любой мазилка может свободно выставить свою работу, только и разговоров что о неоцененных талантах. Там, где нет отбора, нет и вещей отборных. Как бы там ни было, художники вернутся к старому порядку испытания, когда их творчество рекомендуют восторженному вниманию публики, для которой они работают. Без отбора Академии не будет Салона, а без Салона искусство может погибнуть.
С тех пор как каталог выставки стал объемистой книгой, в нем появилось множество имен никому не ведомых, хотя за ними и следует перечень десяти — двенадцати картин. Пожалуй, самое малоизвестное среди них — имя Пьера Грассу, живописца, приехавшего из Фужера, которого в кругу художников запросто зовут Фужером; теперь он уже занял прочное место под солнцем, и это наводит на горькие размышления, которыми и начинается рассказ о его жизни, похожей на жизнь многих других из племени художников.
В 1832 году Фужер жил на улице Наваррен, на пятом этаже одного из тех высоких и узких домов, похожих на Луксорский обелиск, в которых тесный вход почти тотчас переходит в крутую темную лестницу; на каждом этаже у них — не более трех окон, сзади расположен двор, говоря точнее — квадратный колодец. Над квартирой в три или четыре комнаты, занимаемой Грассу из Фужера, была расположена его мастерская с видом на Монмартр. Стены мастерской красно-бурого цвета, тщательно окрашенный натертый пол, простая, но опрятная кушетка, как в спальне лавочницы, на стульях — коврики с каймой: все говорило о бережливости и расчетливой жизни человека ограниченного и небогатого. Здесь стоял комод для хранения принадлежностей живописной мастерской, обеденный стол, буфет, секретер и лежали инструменты, необходимые художнику; все содержалось в чистоте и порядке. Изразцовая печь дополняла картину голландского уюта, еще более заметного при ровном свете зимнего солнца, заливавшего просторную комнату ясными холодными лучами. Фужеру, художнику-жанристу, не нужны были огромные сооружения, разоряющие живописцев исторического жанра; он не чувствовал в себе достаточных способностей для больших полотен и довольствовался станковой живописью. Однажды (это было в начале декабря, в пору, когда французские буржуа периодически страдают манией увековечивать свои и без того всем наскучившие физиономии) Пьер Грассу встал рано, растер краски, затопил печь и принялся есть хлебец, макая его в молоко; он не брался за работу, ожидая, пока оттают окна и свет проникнет в комнату. Была прекрасная сухая погода. Жуя хлеб с тем покорным и смиренным видом, который говорит о многом, художник услышал на лестнице шаги человека, игравшего в его жизни ту роль, какую обычно играют люди подобного рода в жизни всякого художника. То был Элиас Магус, торговец картинами, ростовщик от живописи. Элиас Магус застал художника в ту минуту, когда тот готовился приступить к работе в своей чистенькой мастерской.
— Как поживаете, старый плут? — обратился к нему Грассу, стараясь подделаться под фамильярный тон художников.
Фужер был награжден орденом, Элиас платил ему за картины по двести — триста франков.
— Торговля идет плохо, — ответил Элиас. — Все вы очень уж много о себе мните. На картине красок на шесть су, а вам подавай за нее двести франков... Но вы — добрый малый, вы — человек порядочный, и я пришел предложить вам славное дельце.
— Timeo Danaos et dona ferentes[1] ответил Фужер. — Вы знаете латынь?
— Нет.
— Так вот, это означает, что греки никогда не предлагали хороших дел троянцам без выгоды для себя... Некогда они говорили: «Возьмите моего коня!» Ныне мы говорим: «Возьмите моего медведя!» Что же вы хотите, Улисс-Лаженголь-Элиас Магус?[2]
Эти слова дают представление о беззлобном остроумии Фужера и о шутках, имевших хождение в мастерских художников.
— Не скрою, вам придется сделать для меня даром две картины.
— Ого!
— Ну как хотите... я не требую... Вы честный художник.
— Но в чем дело?
— Я приведу к вам отца, мать и единственную дочь...
— Все единственные в своем роде?
— Вот именно. И надо написать их портреты. Эти почтенные буржуа без ума от искусства, но никогда еще они не отваживались войти в мастерскую. За дочкой сто тысяч франков приданого. Возьмитесь-ка да и напишите их портреты... Быть может, они станут вашими фамильными портретами.
Здесь этот старый немецкий чурбан, по имени Элиас Магус, почему-то слывущий человеком, оборвал свою речь и разразился дребезжащим смехом, который неприятно поразил художника: ему показалось, что он слышит Мефистофеля, рассуждающего о браке.
— За каждый портрет вам заплатят по пятьсот франков, — вам следовало бы сделать для меня три картины.
— Ну еще бы! — весело проговорил художник.
— А женитесь на дочери — не забудьте меня...
— Женюсь? Я?.. — вскричал Пьер Грассу. Я, привыкший спать один, вставать рано, вести правильный образ жизни...
— Сто тысяч франков, — возразил Магус, — и вдобавок приятная девица вся в золотистых тонах: чистейший Тициан.
— А кто они, эти люди?
— В прошлом — торговцы, теперь же — любители искусства; у них загородный дом в Виль д'Авре и от десяти до двенадцати тысяч франков годового дохода.
— А чем они торговали?
— Бутылками...
— Не произносите этого слова... Я так и слышу, как режут ножом пробки... У меня зубы ноют во рту.
— Так что ж, приводить их?
— Три портрета! Я выставлю их в Салоне... Может быть, стану портретистом... Ну ладно, приводите...
Элиас отправился за семейством Вервель. Чтобы понять, в какой мере его предложение могло заинтересовать художника и какое впечатление должна была произвести на него достопочтенная чета Вервель и единственная их дочь, необходимо бросить взгляд на прошлую жизнь Пьера Грассу из Фужера.
В годы ученичества Фужер изучал рисунок у Сервена, считавшегося в академических кругах замечательным рисовальщиком. Затем он перешел к Шиннеру, надеясь постичь тайну сочного, великолепного колорита, которым владел этот мастер. Но и учитель, и его ученики отличались скрытностью, — Пьеру ничего не удалось выведать. Отсюда Фужер перекочевал в мастерскую Сомервье, чтобы приобрести навыки в искусстве композиции; однако и композиция не далась ему. Потом он попытался вырвать у Гране, у Дроллинга тайну очарования их интерьеров: у этих мастеров ему тоже не удалось ничего похитить. В конце концов Фужер завершил свое образование у художника Дюваль-Лекамю. Все годы обучения, переходя от одного живописца к другому, Фужер отличался столь невозмутимым и уравновешенным нравом, что над ним насмехались во всех мастерских, где он побывал, но повсюду он обезоруживал своих сотоварищей скромностью, терпением и кротостью ягненка. Учителя не чувствовали расположения к этому славному малому: крупные художники любят людей блестящих, умы своеобразные, занимательные, пылкие или же мрачные и сосредоточенные, предвещающие будущее дарование. А в Грассу все говорило о посредственности. Само его прозвище — Фужер, которое носит художник в пьесе д'Эглантина, давало повод ко многим издевательствам, но бедняга в силу обстоятельств предпочел принять имя своего родного города: уж очень фамилия Грассу[3] была под стать его внешности. Он был пухленький и приземистый, с бесцветным лицом, глаза у него были карие, волосы черные, нос утиный, большой рот и оттопыренные уши. Кроткое, добродушное и покорное выражение мало облагораживало его дышавшее здоровьем, но не энергичное лицо. Такую натуру наверняка не терзали ни бурные страсти, ни мятежные мысли, ни чувство иронии — свойства великих художников. Этот молодой человек был рожден для жизни добродетельного буржуа; в Париж он приехал, намереваясь поступить приказчиком к торговцу красками, уроженцу Майенны и дальнему родственнику д'Оржемонов; но из упрямства, свойственного бретонцам, сделался художником. Одному богу известно, сколько он выстрадал, как приходилось ему жить в годы ученичества! Он страдал подобно тому, как страдают великие люди, когда их душит нищета и, словно диких зверей, травит свора людей посредственных и толпа завистливых честолюбцев.