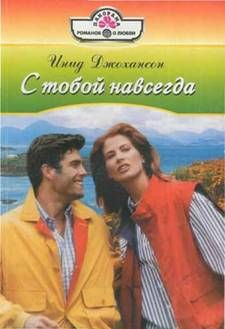Валерия Перуанская - Бабушка
«Деревенская-то я деревенская, – рассуждала про себя бабушка, нарезая капусту для щей или наглаживая Шурину рубашку, – да не совсем я простая. Я ведь до замужества в школе учительницей была». Бабушка и в магазине, если ее считали за темную, деревенскую, хотели обмануть, что-то негодное подсунуть, всегда с достоинством продавщице объяс нит: пусть, мол, не думает, что такая уж она темнота деревенская, она в своем селе школьной учительницей пять лет проработала и в Ленинграде жила, не то что теперь, в провинции. Устыдит этак девчонку, та ей сразу заменит плохое на хорошее, и бабушка идет из магазина довольная, придет, Шуре и Наденьке расскажет, как она не дала себя обмануть, за темноту деревенскую посчитать.
Радости-то было, когда они перебрались в свой отстроенный гараж!.. Хоть и без воды и без кухни – в комнате жили, там же и плита стояла, – зато сами себе хозяева. А ведра таскать бабушке не привыкать, сколько она их за жизнь перетаскала. Шуре – нельзя, он – раненый. Наденька тогда еще здоровая была, но тоже не больно-то любила на колонку ходить или помои выносить. Давление у нее подскочило в шестьдесят шестом, когда Сереженька поступал в институт, от этого или от другого, кто знает, но болела она именно с тех пор. Бабушка считала, что и ленинградская блокада сыграла свою роль, после нее, возможно, Наденька и не оправилась окончательно. Чуть что поделает – и уже устала, уже села.
– И чего ты колготишься? – сердилась в таких случаях бабушка. – Идите с Шурой погуляйте, я сама без тебя управлюсь.
Бабушка и нынче, когда уж на девятый десяток перевалило, с домом одна управляется, а тогда еще совсем была крепкая.
Уговорит Шуру с Наденькой, они и пойдут. Или в кино, или просто по улицам ходят. Уж такой порядок был заведен, сам собой получился: бабушка хлопочет по хозяйству, а они своим заняты – или Сереже помогают делать уроки, или радио слушают; одно время Шура по дереву выжигал, потом увлекся гитарой – сам научился играть по нотам и Сережу приохотил. Или еще приемник собирали. Наденька – та все больше вышивала или книжки читала, она, как отец, очень уж читать любила.
...А кроме блокады, мало было неприятностей? Нет, не мало. Шура с Наденькой уж лет пять жили, Сережа родился, а никак не брал развода с первой женой: не почему-нибудь, а просто – инертный. Так про него говорит бабушкин сын Коля. По-бабушкиному – ленивый. Его с места сдвинуть, похлопотать о чем-нибудь или позаботиться – двух тягачей не хватит. А в те годы развестись было не так просто, как теперь, – раз, два, и готово. Он не хлопотал, а Наденьке сколько нервов это стоило?.. Жена не жена, неизвестно кто. Пока все наладилось, здоровья и не стало.
И все-таки бабушка не хочет гневить судьбу. Неплохо дочка за Шурой прожила жизнь, умирала не где-нибудь, а в своей теплой и светлой квартире. Ее им после гаража через военкомат дали. Пять лет назад... Ни в чем не нуждалась. А разве бывают такие семьи – чтобы ни огорчений, ни неприятностей? Похуже бывает, чего уж там.
Старший сын бабушки, Петя, погиб на войне. Ушел добровольцем с четвертого курса института, в сорок первом, под Ленинградом и погиб. Его, как старшекурсника, еще не брали в армию, сам решил. Когда объявил дома о решении, бабушка заплакала, а отец на нее рассердился, сказал, что Петя правильно поступает, по долгу совести иначе нельзя, раз Родина в опасности. А потом и младший, Коля, ушел. Два раза ранили, но остался живой. После войны вернулся в Ленинград, доучился, там женился, там и живет. Его жизнью бабушка тоже довольна. Конечно, могла бы Наденька еще пожить, порадоваться на белый свет, – Бог иначе рассудил. ...Бабушка так обо всем этом задумалась, что не слышала, как на кухню вошла сестра Маруся.
– И чего ты, Катя, возишься тут? – с укором спросила, она. – Без тебя, что ли, сделать некому?
Бабушка оглянулась на дверь и, увидев на пороге сестру Марусю, вдруг с невероятной, пронзительной ясностью ощутила, что никогда уже не будет на этом порожке стоять Наденька, не придет посмотреть, с чем сегодня бабушка пирожки затеяла – с мясом или ее любимые, с картошкой и луком... Никогда бабушка ее не увидит – сероглазую, круглолицую, с копной золотистых с проседью волос, не услышит ее голоса, ее смеха... Ничего бабушка не ответила сестре, а только почувствовала, как по щекам ее, по всем глубоким морщинам неудержимо потекли слезы, и сердце сдавило, и воздуха в кухне как будто сразу не стало.
Вот все последние дни этак: временами словно забудет, что Наденьки уже нет, перебирает разное в памяти, шепчет сама с собой, разговаривает, а потом вспомнит, и такое горе навалится, слезы потекут, потекут... Но плачет она недолго, привыкла держать себя в руках, не распускаться.
Спросила:
– Проснулись, что ль? Завтракать садитесь. Я картошки с салом нажарила. Сереженька не стал есть, чаю только попил и убежал.
...После завтрака все расходятся кто куда: Шура с бабушкиным братом Иваном идут на кладбище договариваться насчет ограды на могилу. Сын Коля отправляется на вокзал за билетом, ему уже пора возвращаться домой, на работу. Шурин брат с женой уезжают на аэродром, у них на сегодня билеты на самолет. Другая бабушкина сестра, Вера, едет в центр, в магазины, хочет купить дочкам и внучкам городские подарки – в районном центре, где она живет, того не купишь, что в большом городе.
Бабушка остается с Марусей. Они прибирают на кухне, моют посуду, переходят в комнату, где на кровать свалены постели с пола и раскладушек, стулья сдвинуты как попало, на полу намусорено. Наведя порядок, принимаются за На-денькины вещи. Бабушка достает из шкафа новое зимнее пальто, суконное, с цигейковым воротником.
– Весной только справили, не успела Наденька в нем походить, – говорит бабушка. – Я с ней раз пять в ателье ходила, пока заказывали да мерили... А воротник – с ног сбились, искавши. Нету мехов в магазинах, и все тут. Надоумили меня две шапки купить – гляди, какой воротник получился... И не надела ни разу, Наденька-то... Что теперь с ним делать? Может, Вере отдать, ей оно впору должно быть?..
Самые два лучшие Наденькины платья бабушка решает послать с Колей невестке Ларисе:
– Гляди, шерсть какая. По одиннадцати рублей, чай, платили: Ларочка-то повыше будет, да тут запас большой.
Потом бабушка с Марусей садятся рассматривать фотографии:
– Когда из Ленинграда эвакуировались, почти всё там бросили, все там пропало, – рассказывает бабушка, – а фотографии вывезли, Наденька настояла... Вот она в школе с подружками, – показывает бабушка поблекший снимок, – тридцать третий год... или тридцать второй? Не скажу тебе точно. А это она у Зимнего дворца. Тут, гляди, – Петя, Коля и Наденька. Перед самой войной, в Павловск ездили... А это – Андрюша, за Наденькой ухаживал. Жениться на ней хотел. Года три к нам ходил. У него отец был какой-то начальник, партиец, за революцию в тюрьме сидел. Сильно Андрюша любил Наденьку, и она его тоже. Отказала. Мы с Федей внушили: как же ты за такого человека замуж пойдешь? А как узнает, кто мы такие?.. Послушалась. Она послушная у нас была, знаешь ведь. У нас все дети послушные. Сереженька не такой, он – дерзкий... Потом Андрей тоже на фронт ушел, сперва писал, а позже потеряли его след...
После старых, ленинградских снимков идут более поздние: Наденька и Шура, Сережа – маленький, больше, еще больше. А из-под самого низа бабушка извлекает дореволюционную фотографию: толстый картон, справа внизу тисненное золотом имя фотографа, то ли Сафонов, то ли Сазонов. На карточке молодая женщина с высокой, гнездом, прической, в длинном, по моде того времени, платье, с медальоном на груди, а рядом богатырского сложения мужчина в парадном сюртуке, пышноусый красавец.
– Это мы с Федей в Москву после свадьбы ездили, – объясняет бабушка сестре, хотя Маруся не в первый раз видит эту фотографию. Так, может, забыла? – Мы когда в Москву в девятьсот двенадцатом году приехали... – пускается бабушка в воспоминания, но тут сестра спохватывается, что в доме нет хлеба, а магазины скоро закроются, не с чем будет обедать.
Маруся на десять лет моложе бабушки, она еще совсем крепкая да быстрая, у них в роду все такие – неленивые, подвижные, оттого, наверно, и живут долго, думает бабушка, наблюдая, как Маруся повязывает на голову платок, надевает пальто, берет авоську – минуты не прошло, уже ее нет. Бабушка снова берется за шкатулку с фотографиями, разглядывает каждую, и вся ее жизнь, трудная и длинная, проходит перед ней, как в кино. Маруся возвращается не скоро:
– Что это у вас поближе булочной не откроют? Вон куда бегать приходится. И очередь в кассу на полчаса.
Эк, прыткая какая. И булочную ей поближе открой, и еще чтоб без очередей. Но она такая, Маруся. Самостоятельная. В глазах бабушки особенно завидное свойство, которым сама ни в какой степени не обладает.
Разве сравнишь, как обе жизнь прожили?.. Маруся похоронила мужа три года назад, всегда у нее была опора, от детей не зависела. Бабушка на своих детей не в обиде, не за что, а все же – иное дело, когда сам себе хозяин. С самого Ленинграда бабушка уже нигде никогда не работала – то катались по белу свету, то Сереженька родился, надо было нянчить. А Маруся и по сию пору работает. В больнице, медсестрой. У нее есть даже медаль – наградили. Как называется медаль, бабушка сказать не может, но знает, что за хороший труд. Бабушка тоже всю жизнь спины не разгибала, но за этот труд медалей не дают, а спасибо либо скажут, либо нет.