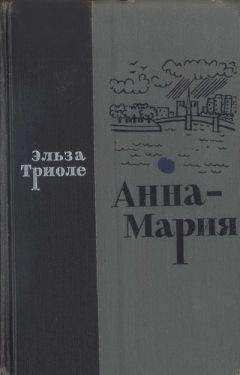Андрей Платонов - Река Потудань
На другой день после возвращения с гражданской войны Никита пошел в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас Затем Никита обошел весь знакомый, родной город, и у него заболело сердце от вида устаревших, небольших домов, сотлевших заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже умерли, засохли навсегда. В его детстве эти яблони еще были зелеными, а одноэтажные дома казались большими и богатыми, населенными таинственными умными людьми, и улицы тогда были длинными, лопухи высокими, и бурьян на пустырях, на заброшенных огородах представлялся в то давнее время лесною, жуткою чащей. А сейчас Никита увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низкими, их надо красить и ремонтировать, бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались волевою землей, светлым небесным пространством, — город стал небольшим. Никита подумал, что, значит, им уже много жизни прожито, если большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные.
Он медленно прошел мимо дома с зелеными ставнями, куда он некогда ходил в гости с отцом. Зеленую краску на ставнях он знал только по памяти, теперь от нее остались одни слабые следы, — она выцвела от солнца, была вымыта ливнями и дождями, вылиняла до древесины; и железная крыша на доме уже сильно заржавела — теперь, наверно, дожди проникают через крышу и мокнет потолок над пианино в квартире. Никита внимательно посмотрел в окна этого дома; занавесок на окнах теперь не было, по ту сторону стекол виднелась чужая тьма. Никита сел на скамейку около калитки обветшалого, но все же знакомого дома. Он думал, что, может быть, кто-нибудь заиграет на пианино внутри дома, тогда он послушает музыку. Но в доме было тихо, ничего не известно. Подождав немного, Никита поглядел в щель забора на двор, там росла старая крапива, пустая тропинка вела меж ее зарослями в сарай и три деревянные ступеньки подымались в сени. Должно быть, умерли уже давно и учительница-старушка, и ее дочка Люба, а мальчик ушел добровольцем на войну…
Никита направился к себе домой. День пошел к вечеру, — скоро отец придет ночевать, надо будет подумать с ним, как жить дальше и куда поступать на работу.
На главной улице уезда было небольшое гулянье, потому что народ начал оживать после войны. Сейчас по улице шли служащие, курсистки, демобилизованные, выздоравливающие от ран, подростки, люди домашнего и кустарного труда и прочие, а рабочий человек выйдет сюда на прогулку позже, когда совсем смеркнется. Одеты люди были в старую одежду, по-бедному, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма.
Почти все прохожие, даже те, которые шли под руку, будучи женихами и невестами, имели при себе что-нибудь для хозяйства. Женщины несли в домашних сумках картофель, а иногда рыбу, мужчины держали под мышкой пайковый хлеб или половину коровьей головы либо скупо хранили в руках требуху на приварок, Но редко кто шел в унынии, разве только вовсе пожилой, истомленный человек. Более молодые обычно смеялись и близко глядели лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, точно они были накануне вечного счастья.
— Здравствуйте! — несмело со стороны сказала женщина Никите Фирсову.
И голос тот сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь. Однако Никите показалось, что это ошибка и это поздоровались не с ним. Боясь ошибиться, он медленно поглядел на ближних прохожих. Но их сейчас было всего два человека, и они уже миновали его. Никита оглянулся, — большая, выросшая Люба остановилась и смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему.
Никита подошел к ней и бережно оглядел ее — точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценность. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бечевой, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала, — и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Поверх платья был надет старый дамский жакет, — наверно, его носила еще мать Любы в свою девичью пору, — а на голове Любы ничего не было, одни простые волосы, свитые пониже шеи в светлую прочную косу.
— Вы меня не помните? — спросила Люба.
— Нет, я вас не забыл, — ответил Никита.
— Забывать никогда не надо, — улыбнулась Люба.
Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой.
Никита пошел с Любой одной к ее дому, — она жила все там же. Мать ее умерла не так давно, а младший брат кормился в голод около красноармейской полевой кухни, потом привык там бывать я ушел вместе с красноармейцами на юг против неприятеля.
— Он кашу там есть привык, а дома ее не было, — говорила Люба про брата.
Люба теперь жила лишь в одной комнате, — больше ей не надо. С замершим чувством Никита осмотрелся в этой комнате, где он в первый раз видел Любу, пианино и богатую обстановку. Сейчас здесь не было уже ни пианино, ни шкафа с резьбою по всему фасу, остались одни два мягких кресла, стол и кровать, и сама комната теперь перестала быть такою интересной и загадочной, как тогда, в ранней юности, — обои на стенах выцвели и ободрались, пол истерся, около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около нее.
Люба вынула общую тетрадь из-за пазухи, потом сняла башмаки и осталась босая. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук: в те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание; бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?
— Они мне ноги трут, — сказала Люба про свои башмаки. — Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом…
Люба, не раздеваясь, залезла под одеяло на кровати и положила косу себе на глаза.
Никита молча просидел часа два-три, пока Люба не проснулась. Тогда уже настала ночь, и Люба встала в темноте.
— Моя подруга, наверно, сегодня не придет, — грустно сказала Люба.
— А что — она вам нужна? — спросил Никита.
— Даже очень, — произнесла Люба. — У них большая семья и отец военный, она мне приносит ужин, если у нее что-нибудь останется… Я поем, и мы с ней начинаем заниматься…
— А керосин у вас есть? — спросил Никита.
— Нет, мне дрова дали… Мы печку зажигаем — мы на полу садимся и видим от огня.
Люба беспомощно, стыдливо улыбнулась, словно ей пришла на ум жестокая и грустная мысль.
— Наверно, ее старший брат, мальчишка, не заснул, — сказала она. — Он не велит, чтоб меня его сестра кормила, ему жалко… А я не виновата! Я и так не очень люблю кушать: это не я — голова сама начинает болеть, она думает про хлеб и мешает мне Жить и думать другое…
— Люба! — позвал около окна молодой голос.
— Женя! — отозвалась Люба в окно.
Пришла подруга Любы. Она вынула из кармана своей куртку четыре больших печеных картошки и положила их на железную печку.
— А гистологию достала? — спросила Люба..
— А у кого ее доставать-то! — ответила Женя. — Меня в очередь в библиотеке записали…
— Ничего, обойдемся, — сообщила Люба. — Я две первые главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет?
— А раньше-то! — засмеялась Женя.
Никита растопил печку для освещения тетрадей огнем и собрался уходить к отцу на ночлег.
— Вы теперь не забудете меня? — попрощалась с ним Люба.
— Нет, — сказал Никита. — Мне больше некого помнить.
* * *
Фирсов полежал дома после войны два дня, а потом поступил работать в мастерскую крестьянской мебели, где работал его отец. Его зачислили плотником на подготовку материала, и расценок его был ниже, чем у отца, почти в два раза. Но Никита знал, что это временно, пока он не привыкнет к мастерству, а тогда его переведут в столяры и заработок станет лучше.
Работать Никита никогда не отвыкал. В Красной Армии тоже люди не одной войною занимались — на долгих постоях и в резервах красноармейцы рыли колодцы, ремонтировали избушки бедняков в деревнях и сажали кустарник в вершинах действующих оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о ней надо было заранее позаботиться.
Через неделю Никита снова пошел в гости к Любе; он понес ей в подарок вареную рыбу и хлеб — свое второе блюдо от обеда в рабочей столовой.