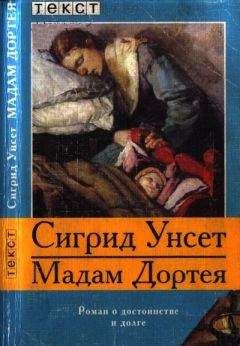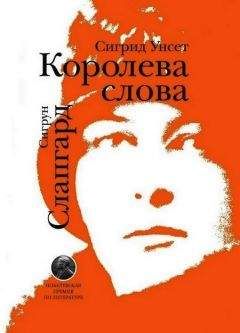Сигрид Унсет - Улав, сын Аудуна из Хествикена
– Да уж будь покоен, я тебя поблагодарю, – вымолвил Стейнфинн, – ежели господь бог сподобит меня дожить до того.
На Маттиасе был кафтан с широкими рукавами, с раструбами и кисточками на обшлагах. Зажав край рукава пальцами, он, еще шире улыбаясь, стал помахивать кисточками перед лицом Стейнфинна. Потом вдруг, размахнувшись, изо всей силы стукнул его кулаком по лицу, так что у Стейнфинна, связанного по рукам и ногам, кровь хлынула из носа и изо рта.
Наконец Маттиас со своими людьми ушел. Улав, сын Аудуна, одиннадцатилетний приемыш Стейнфинна, вбежал в горницу и перерезал веревки. Покуда Маттиас толковал со своей неверной суженой и ее супругом, его люди вытащили этого отрока вместе с детьми Стейнфинна и их кормилицами в сени и держали там.
Стейнфинн схватил копье и, как был нагишом, помчался вслед за Маттиасом и его людьми, которые, глумливо смеясь, скакали по выгону на крутом склоне и прямо через пашни. Стейнфинн метнул копье, но не попал. Меж тем Улав побежал в людскую и на скотный двор и выпустил запертых там челядинцев; тут Стейнфинн вернулся в горницу, оделся и взял оружие.
Но нечего было и помышлять гнаться за Маттиасом: во Фреттастейне оставалось всего три лошади, да и те мирно паслись неоседланные на огороженном выгоне. И все-таки Стейнфинн решил тотчас же отправиться в путь; он хотел призвать на помощь отца и братьев. Одеваясь, Стейнфинн успел с глазу на глаз потолковать с женой. Она вышла вместе с ним из дому, когда он собрался в дорогу. И тут Стейнфинн объявил домочадцам: он не будет спать с женой, покамест не смоет бесчестье, дабы никто не смел сказать, будто он, Стейнфинн, владеет ею по милости Маттиаса, сына Харалда. С тем он и ускакал, а Ингебьерг пошла в старую клеть в глубине двора, которая летом служила опочивальней, и заперлась там. Домочадцы, челядинцы и служанки кинулись в дом и давай расспрашивать, охать да ахать. Спрашивали они полуодетого Улава, сидевшего на краю кровати, куда забрались плачущие дочери Стейнфинна; служанки пытались было расспросить девочек и кормилицу меньшого сына Стейнфинна. Но никто не мог толком ничего сказать: слугам надоело выспрашивать, и они ушли.
Сидя в темной горнице, мальчик снова услыхал горький плач Ингунн. Тогда он забрался на кровать и лег рядом с девочкой.
– Вот увидишь, твой отец отомстит за себя. Уж будь покойна! А я, пожалуй, пойду с ним и покажу: хоть сыны Стейнфинна еще не могут носить оружие, зато у него есть зять!
В первый раз, с тех пор как это произошло, осмелился Улав без обиняков упомянуть о том, что их с Ингунн, совсем еще малых детей, сговорили друг с другом. В первое время, когда Улав поселился во Фреттастейне, работникам случалось болтать об этом сговоре и поддразнивать детей: они-де жених и невеста; но тогда Ингунн всякий раз впадала в ярость. Однажды она побежала к отцу и пожаловалась на обидчиков, а Стейнфинн рассвирепел, запретил людям вспоминать о помолвке и при этом так гневался, что кое-кому пришло на ум: уж не раскаялся ли Стейнфинн в брачной сделке с отцом Улава?
Но в эту ночь Ингунн в ответ на упоминание о помолвке прильнула к Улаву и, уткнувшись в его плечо, так плакала, что рукав его рубахи промок насквозь.
С той ночи жизнь во Фреттастейне потекла совсем по-иному. Отец и братья советовали Стейнфинну призвать к ответу Маттиаса, сына Харалда, но Стейнфинн сказал: он сам рассудит, чего стоит его честь.
Маттиас же меж тем поехал сразу в свою усадьбу в Боргесюсселе, а по весне отправился на богомолье в заморские края. Но когда о том прознали, да еще прошел слух, будто Стейнфинн, сын Туре, до того разгневался, что стал сторониться людей и не желает более спать с женой, – вот тут-то и начались всякого рода толки о том, как Маттиас отомстил своей вероломной суженой. Хотя Маттиас и его люди ничего иного об этом случае, кроме того, о чем судачили во Фреттастейне, не сказывали, случилось так: чем дальше по стране летела молва, тем страшнее, по слухам, возрастала пеня [16], которую потребовал от Стейнфинна Маттиас за свою невесту. И даже песню сложили про это дело, расписав все так, как оно приключилось по разумению людскому.
Однажды вечером три года спустя, когда Стейнфинн бражничал со своими дружинниками, он возьми да и спроси, нет ли среди них того, кто бы спел о нем эту песню. Поначалу те прикинулись, будто и знать не знают ни про какую песню. Но когда Стейнфинн посулил щедро одарить того, кто споет о нем плясовую, оказалось, что все знают ее. Стейнфинн выслушал песню до конца; время от времени он скалил зубы и даже ухмылялся. А после пошел спать, но люди слышали, как он до самой полуночи переговаривался о чем-то через дверцу боковуши [17] со своим сводным братом Колбейном, сыном Туре.
Этот Колбейн был сыном Туре из Хува и его полюбовницы, с которой Туре знался до женитьбы; и он всегда куда больше любил нагулышей, прижитых с нею, нежели своих законнорожденных детей. Туре выгодно женил Колбейна, выговорив ему большую усадьбу к северу от Мьесена. Но до чего же незадачлив был этот Колбейн: спесив, несправедлив, легко впадал в ярость и вечно вел тяжбы как с людьми низкого роду-племени, так и с равными себе. Одним словом, обходительности ему недоставало. Особой любви между ним и его законнорожденными братьями не было, покуда Стейнфинна не постигла беда; тогда-то он и подружился с Колбейном. С тех пор оба брата были неразлучны, и Колбейн неизменно пекся о Стейнфинне и всех его делах. Но распутывал он их точь-в-точь как свои собственные и затевал распри, даже если вел дела от имени брата.
Само собой, Колбейн вовсе не желал зла меньшему брату; он по-своему полюбил Стейнфинна, когда тот в своей беспомощности всей душой доверился сводному брату. Беспечен и ленив был Стейнфинн в дни своего благоденствия; он более помышлял о том, чтобы жить на широкую ногу, нежели заботился о своем достатке. После той злосчастной ночи он, как уже сказано, долгое время сторонился людей. Но потом, по совету Колбейна, взял на хлеба целую ватагу латников – молодых, оружных мужей, особливо из тех, что прежде служили при дворе короля или у хевдингов в других краях. Стейнфинн со своими людьми спал в жилом доме [18], и они сопровождали хозяина, куда бы тот ни поехал; но они не могли и не желали приумножать его богатство. Так что от всей этой дружины у Стейнфинна был один перевод добра да малая польза.
И все же во Фреттастейне худо ли, хорошо ли, но сеяли хлеб, потому что старый управитель Грим и его сестра Далла были детьми одного из рабов бабки Стейнфинна, и у них не было иных помыслов, кроме благоденствия молодого хозяина. Но теперь, когда Стейнфинну могли понадобиться доходы с поместий, которыми он владел в дальних приходах, он не желал ни видеть собственных приказчиков и управителей, ни толковать с ними, а Колбейн, заправлявший делами вместо хозяина, то и дело ссорился со всеми.
Ингебьерг, дочь Йона, всегда была рачительной хозяйкой, и это во многом возмещало расточительность мужа, который жил, как заведено у праздной родовитой знати. Но теперь она укрылась в летней клети со своими служанками, и прочие домочадцы ее почти не видели. Она все время о чем-то раздумывала и сокрушалась, никогда не спрашивала ни об усадьбе, ни о жилом доме я часто гневалась, когда кто-либо выводил ее из раздумий. Даже с детьми, которые жили вместе с матерью, была она скупа на слова и ничуть не заботилась о том, каково им живется и что они делают. А ведь прежде, в добрые старые времена, Ингебьерг была нежной матерью, а Стейнфинн, сын Туре, любящим отцом, безмерно гордившимся своими пригожими и здоровыми детьми.
Покуда сыны ее, Халвард и Йон, были еще малы, она часто сажала их к себе на колени и баюкала, приникнув лицом к белокурым макушкам детей, но и тогда все же сидела хмурая, удрученная, погруженная в горестные раздумья. Когда же мальчики подросли, им наскучило в летнем доме с печальной матерью и служанками.
Тура, меньшая дочь, была доброе и красивое дитя. Она разумела, что родители претерпели великую несправедливость и ныне пребывают в горе и тревоге. Потому-то по доброте и любви своей она всячески старалась им угодить. И стала любимицей отца с матерью. Порой, бывало, лицо Стейнфинна чуть светлело, когда он смотрел на младшую дочь. Тура, дочь Стейнфинна, была пухленькая, складная, с точеными ручками и ножками; она рано начала созревать и становиться женственной. Личико у нее было продолговатое, но полное, глаза синие, волосы белокурые; толстые, цвета золотистой пшеницы косы свисали у нее до пояса. Отец гладил ее, бывало, по щеке: «Ты доброе дитя, моя Тура, да благословит тебя господь! Иди к матушке, Тура, посиди с ней, утешь ее!»
Тура шла в клеть и садилась прясть или шить рядом с удрученной горем матерью. И ничего ей не было милее, если Ингебьерг говорила ей наконец: «До чего же ты добра, моя Тура, да охранит тебя господь от всяческого зла, дитя мое!»
Тут из глаз Туры капали слезы – она думала о тяжкой доле родителей и, исполненная праведного гнева, смотрела на сестру. Та никогда не могла усидеть спокойно рядом с матерью, ни одной минутки не могла пробыть в летнем доме без того, чтобы не вывести матушку из терпения своей вечной непоседливостью; в конце концов Ингебьерг всегда просила ее уйти. Тогда Ингунн беззаботно и не испытывая ни малейшего раскаяния выскакивала за дверь и бежала к другим детям, с которыми шумно играла во дворе, – то были Улав и другие мальчики, сыновья челядинцев, живших во Фреттастейне.