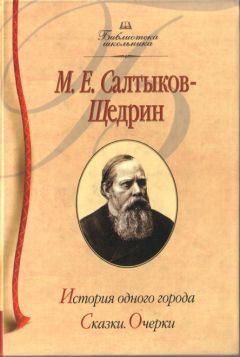Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Книги 1-5
— Что же тут особенного? — удивилась она. — Я такая же, как и все. Вы, значит, не видели французов?
— Вот уже год, как я живу среди французов, — ответил Кристоф, — и все, кого я встречал, думают только о развлечениях или подражают тем, кто развлекается. Других я не видел.
— Еще бы, — сказала Сидония. — Вы видели только богатых. Богатые всюду одинаковы. Вы еще ничего не видели.
— Ваша правда, — согласился Кристоф. — Но я начинаю видеть.
Впервые перед ним предстал тот французский народ, который, кажется, жил извечно на этой земле, который составляет с нею одно целое, который видел, как приходили и уходили столько племен завоевателей, столько калифов на час, но сам прочно стоит на своей земле.
Кристоф понемногу поправлялся и начал вставать с постели.
Первой его заботой было, как бы возместить Сидонии расходы, которые она понесла во время его болезни. Так как он не мог еще бегать по Парижу в поисках работы, он решился, правда не сразу, написать Гехту: он просил его выдать аванс под ближайшую работу. Со свойственной ему удивительной смесью равнодушия и благожелательности Гехт заставил Кристофа ждать ответа более двух недель — двух недель, в течение которых Кристоф жестоко страдал. Он отказывался прикасаться к еде, которую ему приносила Сидония, и, лишь уступая ее настояниям, ограничивался стаканом молока и куском хлеба, в чем горько упрекал себя, говоря, что кормится на чужой счет. Наконец Гехт прислал ему просимую сумму, не написав от себя ни слова, и за все месяцы, что проболел Кристоф, Гехт ни разу не справился об его здоровье. Он обладал талантом не располагать к себе людей, даже делая им добро. Впрочем, объяснялось это тем, что добро он делал не любя.
Сидония заходила каждый день на минутку, после полудня и вечером. Она готовила обед Кристофу. Она возилась совершенно бесшумно; потихоньку от Кристофа старалась навести у него порядок; увидя плачевное состояние белья, ни слова не говоря, унесла его к себе и все перечинила. Незаметно их отношения стали более задушевными. Кристоф много говорил ей о своей старушке матери. Сидония была растрогана; она представляла себя на месте одинокой, разлученной с сыном Луизы и проникалась к Кристофу материнским чувством. И сам он, разговаривая с ней, бессознательно старался возместить отсутствие того семейного тепла, без которого особенно трудно обойтись, когда ты слаб и болен. С Сидонией он чувствовал себя ближе к Луизе, чем с кем бы то ни было. Он поверял ей иногда и свои композиторские огорчения. Она жалела его так, как могло жалеть её мягкое сердце, но не без иронии к этим артистическим печалям. Это тоже напоминало ему мать и было благотворно.
Он старался вызвать Сидонию на откровенность, но она была гораздо более замкнута, чем он. Он шутя спрашивал, не собирается ли она замуж. Она отвечала своим обычным, смиренным и насмешливым тоном, что прислуге это не дозволяется: не оберешься хлопот. Да и не так-то легко найти хорошего человека. Мужчины ведь отъявленные обманщики. Увиваются за вами, когда знают, что у вас есть деньги; а скушают ваши денежки — и поминай как звали. Довольно она насмотрелась на такие проделки, и испытать это удовольствие на себе ей неохота. Она не сказала Кристофу, что у нее и у самой когда-то расстроилась свадьба: ее «нареченный» бросил ее, когда убедился, что весь свой заработок она отдает родным. Кристоф видел, как она по-матерински играет во дворе с соседскими детьми. А встретив на лестнице, она горячо их целовала и старалась, чтобы никто не заметил этого. Кристоф вспоминал некоторых известных ему парижских дам и сравнивал их с Сидонией: она была неглупа и ничуть не более безобразна, чем многие из них; на их месте, думал Кристоф, она вела бы себя гораздо лучше. Сколько ушедших втуне сил, здоровых задатков, жизни, и никому до этого нет дела! Зато сколько живых мертвецов безнаказанно коптят небо, отнимая у других место под солнцем и заслуженное счастье.
Кристоф, не раздумывая, привязался слишком сильно к Сидонии и позволял баловать себя, как большое дитя.
В иные дни он замечал, что Сидония ходит как в воду опущенная, но объяснял это ее тяжелой жизнью. Раз она внезапно встала, прервала на полуфразе разговор и ушла, сославшись на какую-то работу. А после того, как однажды Кристоф разговорился было с ней по душам, она на некоторое время совсем прекратила посещения и с тех пор стала держать себя крайне сдержанно. Кристоф недоумевал, чем он мог ее обидеть. Спросил у нее об этом. Она взволнованно ответила, что ничем он ее не обидел, однако продолжала его сторониться. Через несколько дней она заявила, что уезжает: отказалась от места и покидает свою комнатку. В холодных и церемонных выражениях поблагодарила его за доброе к ней отношение, пожелала здоровья ему и его матушке и попрощалась. Он был так поражен этим внезапным решением, что не нашелся, что сказать; начал было расспрашивать о причинах, побудивших ее к такому шагу, но она отвечала уклончиво. Он спросил, нашла ли она другое место; она ничего не ответила и, чтобы прекратить дальнейшие расспросы, ушла. На пороге он протянул ей руку; она чуть крепче обычного пожала его руку, но лицо ее не дрогнуло, и до последнего мгновения с него не сходило все то же натянутое и холодное выражение. Она ушла.
Он так и не понял почему.
Казалось, зиме не будет конца. Сырость, туман, грязь. Неделя за неделей не выглядывало солнце. Кристоф хотя и оправился, но не выздоровел окончательно. В правом легком все еще чувствовалась болезненная точка, медленно зарубцовывавшаяся ранка, и приступы нервного кашля не давали спать по ночам. Доктор запретил ему выходить. С таким же успехом он мог бы предписать ему уехать на Ривьеру или на Канарские острова. Как мог он не выходить! Если бы он не ходил за своим обедом, обед не пришел бы к нему сам. Ему прописывали также лекарства, на приобретение которых у него не было средств. Поэтому он перестал обращаться к врачам, только деньги переводить напрасно; кроме того, он всегда чувствовал себя с врачами неловко: они не могли понять друг друга, как будто жили на разных планетах. Врачи относились с ироническим и немного презрительным участием к этому бедняге музыканту, воображавшему себя центром вселенной, тогда как он был лишь соломинкой, подхваченной потоком жизни. Его унижало осматривание, ощупывание, выстукивание. Он стыдился своего больного тела. Думал: «Как я буду рад, когда оно умрет!»
Несмотря на одиночество, болезнь, нищету, десятки поводов для уныния, Кристоф терпеливо шел своим путем. Никогда еще он не был так терпелив. Он сам себе дивился. Болезнь часто бывает благодеянием. Сокрушая тело, она освобождает душу, очищает ее; в ночи и дни вынужденного бездействия на поверхность сознания всплывают мысли, которые страшатся слишком яркого света и в обычное время никнут под обжигающим солнцем здоровья. Кто никогда не был болен, тот не познал себя целиком.
Болезнь подействовала на Кристофа на редкость умиротворяюще. Благодаря ей он очистился от всего, что было в нем грубого. Какими-то более тонкими органами воспринимал он отныне мир таинственных сил, обитающих в каждом из нас, но заглушаемых шумом жизни. С того дня, когда, уже заболевая, он посетил Лувр — незабываемое воспоминание, — он жил в атмосфере, родственной той, что исходила от полотен Рембрандта, — мягкой, теплой и глубокой. Он тоже ощущал в своем сердце волшебные отблески невидимого солнца. И хотя он был неверующим, однако знал, что не одинок: какой-то бог вел его за руку, туда, куда должно было идти. И он доверился ему, как малый ребенок.
В первый раз за много лет он пользовался вынужденным отдыхом. После длительного умственного напряжения, предшествовавшего болезни и еще теперь дававшего о себе знать, даже затянувшееся выздоровление стало для него отдыхом. Кристоф, уже несколько месяцев живший настороженной жизнью дозорного, чувствовал, как взгляд утрачивает былую мучительную пристальность. Он не утратил от этого своей силы, — только стал человечнее. Мощная, но чем-то страшная жизнь гения отодвинулась на задний план; он ощущал себя таким же человеком, как и все прочие, он освободился от фанатизма ума, от жестокости и беспощадности, свойственных творящему. Он уже ни к чему не горел ненавистью, не думал о том, что раньше выводило его из себя, а если и думал, то лишь пожимал плечами, меньше уделял внимания собственным невзгодам и больше чужому горю. После встречи с Сидонией он стал больше думать о маленьких людях, безмолвно страдающих и безропотно преодолевающих трудности жизни во всех уголках земли, и — забывал о себе. Обычно не склонный к чувствительности, он испытывал теперь приливы беспричинной нежности, которую порождает иногда телесная слабость. По вечерам, облокотившись на подоконник, он глядел в окно и слушал таинственные звуки ночи… чей-то голос, который пел в соседнем доме и, волновал, как всякий исходящий издалека голос, звуки Моцарта, которого в простоте души разыгрывали детские ручонки… он думал: «Слушайте все вы, кого я люблю и кого не знаю! Вы, кого еще не обожгло жизнью, вы, лелеющие великие замыслы, сознавая всю их неосуществимость, вы, борющиеся против враждебного мира, — я хочу, чтобы вы были счастливы, — так хорошо быть счастливым!.. О друзья мои, я знаю, что вы здесь, и протягиваю вам руки… Нас разделяет стена. Камень за камнем я разрушаю ее; но в то же время я разрушаю себя. Соединимся ли мы когда-нибудь? Дойду ли я до вас, или снова между нами вырастет стена — смерть?.. Нужды нет! Пусть я буду всю жизнь одинок, лишь бы только я мог работать для вас, делать вам добро и лишь бы вы полюбили меня немножко, потом, после моей смерти!..»