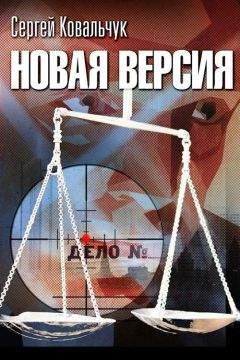Томас Гарди - Мэр Кэстербриджа
Сьюзен Хенчард первый раз в жизни села в экипаж, когда в день ее свадьбы к дому подъехала простая двухместная карета, запряженная одной лошадью, чтобы отвезти ее и Элизабет-Джейн в церковь. Было безветренное утро; моросил теплый ноябрьский дождь со снегом, который сыпался, как мука, и запорошил все шляпы и пальто. У церковных дверей стояло только несколько человек, но сама церковь была набита битком. Шотландец, выступавший в роли шафера, был здесь единственным, если не считать самих виновников торжества, кто знал правду о женихе и невесте. Но он был так неопытен, добросовестен, рассудителен, так ясно сознавал серьезность происходящего события, что не замечал всей его трагичности. Для этого нужны были специфические качества Кристофера Кони, Соломона Лонгуэйса, Базфорда и их приятелей. Но они и не подозревали о тайне; впрочем, когда настало время новобрачным выйти из церкви, вся компания собралась на ближнем тротуаре и принялась обсуждать событие со своей точки зрения.
– Вот уже сорок пять лет, как я живу в этом городе, – сказал Кони, – по убей меня бог, если я хоть раз в жизни видел, чтобы человек, ждавший так долго, взял так мало! После этого можно сказать, что даже ты, Нэнс Мокридж, можешь не терять надежды!
Последние слова он сказал, обернувшись к стоявшей позади него женщине, той самой, что показывала всем плохой хлеб Хенчарда, когда Элизабет и ее мать пришли в Кэстербридж.
– Будь я проклята, если выйду за такого, как он или как ты, – отозвалась эта особа. – Что до тебя, Кристофер, мы тебя знаем как облупленного, и чем меньше про тебя говорить, тем лучше. А что до него… так ведь… – она понизила голос, – говорят, будто он был бедняком, работал в учениках и жил на пособие от прихода… Я ни за что на свете не буду болтать об этом… но он действительно был жалким приходским учеником, и, когда начал жить, добра у него было не больше, чем у вороны.
– А теперь он каждую минуту получает прибыль, – пробормотал Лонгузйс. – Когда про человека говорят, что он получает столько-то прибыли в минуту, с ним нельзя не считаться!
Обернувшись, он увидел диск, покрытый сетью морщин, и узнал улыбающееся лицо той толстухи, что в «Трех моряках» просила шотландца спеть еще песню.
– Слушай-ка, тетка Каксом, – начал Соломон Лонгузйс, – как же это получается? Миссис Ньюсон – можно сказать, скелет, а не женщина – подцепила второго муженька, а ты, бабища с таким тоннажем, не сумела.
– И не хочу. На что мне второй муж? Чтобы он меня колотил?.. Нет уж, как говорится, «нет Каксома, не будет и кожаных штанов в доме».
– Да, с божьей помощью, кожаные штаны тю-тю! – Мне, старухе, о втором муже думать не годится, – продолжала миссис Каксом. – Но помереть мне на этом месте, если и родилась не в такой же почтенной семье, как она.
– Правильно! Твоя мать была очень хорошая женщина, – я ее помню. Сельскохозяйственное общество наградило ее за то, что она родила пропасть здоровых ребят без помощи прихода, а также за другие чудеса добродетели.
– Это-то нам и мешало подняться: очень уж велика была семья.
– Именно. Где много свиней, там нехватка помоев.
– А помнишь, Кристофер, как пела моя мать? – продолжала миссис Каксом, возбужденная воспоминаниями. – И как мы пошли с ней на пирушку в Меллсток, помнишь? К старухе Ледлоу, сестре фермера Шайнера, помнишь? Еще мы ее прозвали Жабьей Кожей за то, что лицо у нее было такое желтое и веснушчатое, помнишь?
– Помню, как не помнить, – отозвался Кристофер Кони, посмеиваясь.
– И я тоже хорошо помню: ведь я в то время была уже на выданье – полдевки, полбабы, как говорится. А ты не забыл, – и она ткнула его пальцем в плечо, а глаза ее заблестели в щелках между веками, – ты не забыл про херес и про серебряные щипцы для снимания нагара, да как Джоан Даммит раскисла, когда мы возвращались домой, и Джеку Григсу, хочешь не хочешь, пришлось перетащить ее через грязь, и как он уронил ее в коровьем загоне на молочной ферме Суитэлла, и нам пришлось оттирать ее платье травой?.. В жизни я не бывала в такой переделке!
– Да… этого я не забыл… Ведь как только не баловались в старину, чего только не выделывали, вот уж право! Эх, сколько миль я тогда отшагал на своих на двоих, а теперь едва силы хватает переступить через борозду!
Поток их воспоминаний был прерван появлением воссоединившейся четы, и Хенчард оглядел зевак тем характерным для него взглядом, в котором попеременно отражались удовлетворенное самолюбие и презрение.
– Да… не одного они поля ягода, хоть он и называет себя трезвенником, – заметила Нэнс Мокридж. – Придется ей хлебнуть горя, прежде чем она от него избавится. Он чем-то на Синюю Бороду смахивает, и, придет час, это скажется.
– Чушь, он человек неплохой! Некоторым людям одного счастья мало, – хотят его с маслом кушать. Был бы у меня выбор, как океан-море, я и то не пожелала бы лучшего мужа. Несчастная плакса, да это ей бог послал, ведь у нее-то самой и гроша за душой нет.
Скромная маленькая карета отъехала и скрылась в тумане, а зеваки разбрелись кто куда.
– Да, в нынешние времена прямо не знаешь, как смотреть на вещи! – сказал Соломон Лонгуэйс. – Вчера не так далеко отсюда какой-то человек упал мертвый, и как об этом вспомнишь, да еще погода стоит больно сырая, так прямо душа не лежит браться за какую-нибудь работу. Я совсем зачах оттого, что вот уже две недели пью не больше чем по девятипенсовому стаканчику, так что придется, видно, зайти погреться в «Три моряка», когда буду проходить мимо.
– Не пойти ли мне с тобой, Соломон? – сказал Кристофер Кони. – А то я весь отсырел, как слизняк липкий.
ГЛАВА XIV
Бабье лето настало в жизни миссис Хенчард, когда она вошла в большой дом своего супруга и в круг почтенных его знакомых, и оно выдалось таким ясным, какой только может быть эта пора. Ее муж боялся, как бы она не стала жаждать более глубокой привязанности, чем та, какую он мог ей дать, и потому всячески старался выказать ей хотя бы видимость любви. Между прочим, он велел выкрасить ярко-зеленой краской железные перила, которые обросли тусклой ржавчиной и вот уже восемьдесят лет имели весьма жалкий вид, а подъемные окна времен короля Георга, с тяжелыми рамами и частым переплетом, обновили, покрыв их тремя слоями белил. Он обращался с женой так ласково, как только может обращаться мужчина, мэр и церковный староста. Дом был просторный, комнаты с высокими потолками, лестничные площадки широкие, и две непритязательные женщины казались лишь едва заметным дополнением к его убранству.
Для Элизабет-Джейн это время было очень счастливым. Свобода, которой она пользовалась, поблажки, которые ей делали, превзошли ее ожидания. Спокойная, беззаботная, безбедная жизнь, начавшаяся с замужеством ее матери, дала толчок к большим переменам в Элизабет-Джейн. Оказалось, что она может иметь сколько угодно красивых вещей и нарядов, а, как гласит средневековая поговорка, «брать, иметь и сохранять – приятные слова». Вместе с душевным спокойствием настал расцвет всего ее существа, а вместе с расцветом пришла красота. В знании жизни – следствии острой врожденной интуиции – у нее не было недостатка, но образования, умения держать себя в обществе – этого у нее, к сожалению, не было; зато, по мере того как проходили зима и весна, ее осунувшееся лицо и худощавое тело полнели, приобретая более округлые и мягкие формы; морщинки на юном лбу сгладились, а землистый цвет лица, который она раньше считала врожденным, поболел, когда ее жизнь изменилась, окружив ее изобилием материальных благ, и теперь на щеках девушки появился румянец. Порой ее серые задумчивые глаза стали загораться лукавой веселостью; по это случалось не часто, – мудрость, глядевшая из этих глаз, неохотно сочеталась с беспечностью. Как и всем, кто знал тяжелые времена, веселость казалась ей чем-то неразумным и неуместным, чему не следует поддаваться, – разве что изредка, в минуты праздничного настроения; ведь она так давно привыкла к тревожной рассудительности, что не могла сразу отвыкнуть от нее. Она не переживала тех беспричинных подъемов и упадков духа, которые бывают у многих людей; не было случая – перефразируя цитату из одного современного поэта, – не было случая, чтобы в душу к ней прокралось уныние и она бы не знала, как оно прокралось туда; и если теперь она стала жизнерадостной, то для этого появились веские основания.
Естественно было ожидать от девушки, которая быстро хорошела, жила в комфорте и первый раз в жизни располагала свободными деньгами, что она начнет наряжаться без удержу. Но нет. Разумность поведения Элизабет-Джейн ни в чем не сказывалась так заметно, как в выборе нарядов. Отставать от своих возможностей в выполнении прихотей – привычка столь же полезная, как идти в ногу с возможностями, когда речь идет о делах. Эта простодушная девушка именно так и поступила, руководствуясь врожденной проницательностью. Весной она не пожелала внезапно расцвести, подобно водяной лилии, и разукраситься буфами и побрякушками, как поступили бы многие кэстербриджские девушки, будь они на ее месте. Ее торжество умерялось осмотрительностью: зная, что ее будущее обеспечено, она по-прежнему, как полевая мышь, боялась плуга судьбы, – страх, свойственный вдумчивым людям, которые с детства страдали от бедности и угнетения.