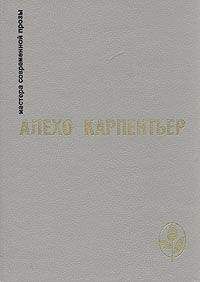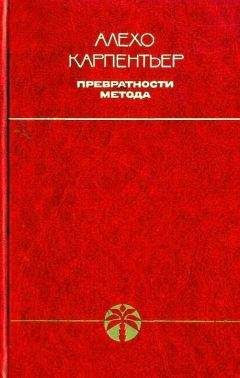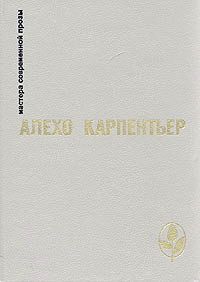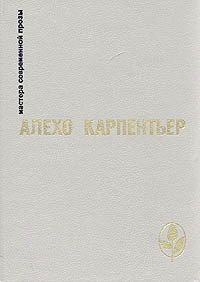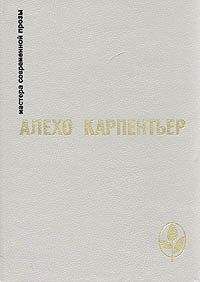Алехо Карпентьер - Царство земное
Как-то ночью, в поздний час, когда на кухне оставались только Солиман и пьемонтка, негр, хватив лишку, пожелал осмотреть всю виллу. По длинному коридору пьемонтка вывела его в просторный внутренний двор, выложенный мраморными плитами, которые в лунном свете казались голубоватыми. Двойной ряд колонн шел вдоль всего двора, отбрасывая на стены тени капителей. То поднимая, то опуская фонарь, с какими жители Рима ночью ходят по улицам, пьемонтка явила взгляду Солимана царство статуй, заполонивших одну из боковых галерей. Все статуи изображали женщин, и притом нагих, хотя все почти прикрыты были легким флером, который под дуновением воображаемого ветерка ложился так, как того требует благопристойность. А еще Солиман увидел много зверей и птиц, ибо дамы эти то обвивали руками шею лебедя, то обнимали быка, то бежали со сворой борзых, то спасались от козлоногих людей с рожками, которые, верно, приходились сродни самому дьяволу. Это было царство холода, белизны, неподвижности, но тени статуй в свете фонаря вытягивались, оживали, словно все эти существа с глазами без зрачков двигались хороводом вокруг полуночных гостей, глядя на них невидящим взглядом. С пьяных глаз частенько мерещится всякая нечисть, и Солиману почудилось, будто одна из статуй чуть повела рукой. Ему стало не по себе, и он потащил пьемонтку к лестнице, которая вела наверх. Теперь вокруг были картины, и они тоже, казалось, отделялись от стен и оживали. То перед Солиманом возникал юноша, с улыбкой отдергивающий занавес, то увенчанный виноградом отрок подносил к устам безмолвную свирель либо прижимал к ним указательный перст. Миновав галерею с зеркалами, стекла которых украшала роспись масляными красками, изображавшая цветы, горничная с плутовской ужимкой отворила узкую дверь орехового Дерева и опустила фонарь.
В глубине небольшого кабинета была одна только статуя. Статуя совершенно нагой женщины, которая покоилась на ложе, Держа в руке яблоко и словно протягивая его кому-то. Пытаясь совладать с хмелем, Солиман неверными шагами побрел к статуе, от изумления сознание его, помутненное винными парами, несколько прояснилось. Это лицо было ему знакомо, и тело, тело тоже напоминало ему о чем-то. В тревоге он стал ощупывать мрамор, словно вглядываясь, внюхиваясь в его поверхность осязающими кончиками пальцев. Потрогал груди, обхватив их снизу ладонями. Провел рукою по животу, задержав мизинец во впадине пупка. Погладил мягкий изгиб спины, словно собираясь перевернуть изваяние на другой бок. Пальцы его искали округлость бедер, мягкость подколенной впадины, упругость груди. И движения его рук разбудили память, вызвали образ давно минувших лет. Он не в первый раз касался этого тела. Он уже растирал эту щиколотку, таким же точно круговым движением унимая боль от растяжения связок. Тогда под пальцами у него была плоть, сейчас камень, но очертания были те же. Теперь ему вспомнились полные страха ночи на острове Ла-Тортю, когда за запертыми дверьми предсмертным хрипом хрипел французский генерал. Вспомнилась та, которой он должен был почесывать голову, убаюкивая ее. И внезапно, повинуясь властному зову чувственной памяти, Солиман стал массировать каменное тело, проводя ладонью по мышцам, по сухожилиям, растирая спину от хребта к бокам, пробуя большим пальцем упругость груди, выстукивая мрамор костяшками пальцев. Но холод камня передавался коже рук, и негр вдруг замер, ощутив, что запястья его цепенеют, словно их зажала в тиски смерть, и он закричал. Вино снова ударило ему в голову. Статуя, желтоватая в свете фонаря, была мертвым телом, перед ним был труп Полины Бонапарт. Труп, только что остывший, только что утративший трепет и зрение, может быть, еще возможно вернуть его к жизни. Негр кричал, кричал во всю мощь своего голоса, словно грудь его разрывалась, и отчаянные крики гулко отдавались по всем обширным покоям виллы Боргезе. И таким дикарским стало его лицо, так загрохотали по полу каблуки, превращая в барабан перекрытие меж кабинетом и находившейся под ним часовней, что пьемонтка в страхе скатилась вниз по лестнице, оставя Солимана наедине с Венерой Кановы [130].
Во дворе замелькали огоньки свечей и масляных плошек. Разбуженные неистовыми воплями, гремевшими в бельэтаже, кучера и лакеи выскакивали из своих каморок в исподнем, на ходу влезая в панталоны. Раскатисто ударил подвесной молоток по воротам, и ворота растворились, пропуская жандармов ночного дозора, они вошли гуськом, а следом протиснулись встревоженные соседи. Увидев, как заполыхали зеркала, негр резко обернулся к окну. Огни во дворе, люди, толпившиеся внизу средь белых мраморных статуй, слишком знакомые очертания треуголок, мундиры со светлой выпушкой, холодный блеск сабли наголо – все это мгновенно напомнило ему ночь смерти Анри Кристофа, и его пробрала дрожь. Высадив окно стулом, Солиман выскочил на улицу. И под благовест заутрени, дрожа в ознобе, – он подхватил малярию, занесенную в Рим из Понтийских болот, – негр взывал к Великому Легбе, молил помочь ему найти путь обратно в Сан-Доминго. В ладонях и пальцах у него осталось непереносимое ощущение, словно он притронулся к призраку. Ему казалось, что Вышняя Сила, войдя в его тело, швырнула его на могильную плиту, как случалось с иными неграми у него на родине, с одержимыми, которых боятся и почитают крестьяне, ибо они состоят в самых тесных сношениях с Хозяевами Кладбищ. Тщетно пыталась королева Мария Луиза облегчить его муки успокоительным питьем из горькой травы eupatorium villosum, которую доставляли ей из Капа через Лондон по особой милости президента Буайе [131]. Солиман дрожал от холода. Мрамор римских палат и статуй заволокло нежданным сырым туманом. Летнее небо час от часу мутнело. Обеспокоенные недугом камердинера, принцессы послали за доктором Антоммарки [132], который состоял при Наполеоне на острове святой Елены: он слыл медиком весьма сведущим и пользовался особою славой как гомеопат. Но выписанный им рецепт так и остался лежать в ящике ночного столика. Повернувшись ко всем спиною, надсадно дыша в стену, оклеенную зеленой бумагой в желтых цветах, Солиман искал пути к богу, что остался в далекой Дагомее, стоял там где-нибудь в тени на перекрестке, и красный фаллос его покоился на посохе, который он для того повсюду носил с собою.
Papa Legba, l'ouvri barriе-a pou moin, ago yе,
Papa Legba, ouvri barriе-a pou moin, pou moin passer [133].
II. Королевский дворец
Ти Ноэль в числе первых бросился грабить дворец Сан-Суси. По этой-то причине и были меблированы столь причудливым образом развалины бывшей усадьбы Ленормана де Мези. Подвести их под кровлю по-прежнему не представлялось возможным, поскольку отсутствовали поверхности, могущие служить опорами для балки либо бревна, но старик, орудуя мачете, высвободил из зарослей еще несколько каменных останков различных частей здания, и на свет божий появились глыбы фундамента, подоконник, три ступеньки, кусок стены, на кирпичах которой сохранился алебастровый лепной карниз, каким обыкновенно украшали столовые в нормандском вкусе. В ту ночь, когда по Равнине сновали мужчины, женщины, дети, таща на голове кто часы с маятником, кто стулья, кто балдахины, кто жирандоли, кто скамеечки для молитвы, кто лампы и тазы для умывания, Ти Ноэль несколько раз наведывался в Сан-Суси. Таким образом он стал обладателем наборного столика работы Буля; столик стоял перед кухонным очагом, который служил старому негру опочивальней и труба которого была заткнута соломой, а вокруг Ти Ноэль расставил ширмы из далекого Короманделя [134], затканные смутными фигурами по тусклому золоту фона. На уцелевших плитах пола, разрушенного травами и корнями, покоилось чучело луны-рыбы, некогда поднесенной в дар принцу Виктору королевским ученым обществом Лондона, а рядом стояла музыкальная шкатулка и толстостенный графин зеленого стекла с застывшими внутри пузырьками, которые переливались всеми цветами радуги. Еще Ти Ноэлю досталась кукла в наряде пастушки, мягкое штофное кресло и три тома Французской энциклопедии, которыми он пользовался как сиденьем во время трапез, состоявших из стеблей сахарного тростника.
Но больше всего радости доставляло старику обладание камзолом Анри Кристофа, зеленым шелковым камзолом с нежно-розовыми кружевными манжетами, в котором Ти Ноэль щеголял постоянно; наряд его довершала соломенная шляпа, сплюснутая и примятая наподобие треуголки, и шляпа эта, украшенная алым цветком вместо кокарды, придавала Ти Ноэлю поистине королевский облик. В послеполуденную пору он похаживал среди своей мебели, расставленной под открытым небом, возился с куклой, умевшей закрывать и открывать глаза, либо заводил музыкальную шкатулку, без конца наигрывавшую все тот же немецкий лендлер. Теперь Ти Ноэль говорил без умолку. Он говорил, остановясь посреди дороги и размахивая руками; говорил, обращаясь к обнаженным до пояса прачкам, стоявшим на коленях в мелких ручьях с песчаным дном и полоскавшим белье; говорил, обращаясь к детям, водившим хоровод. Но больше всего говорил он, когда усаживался за свой наборный столик и брал в руку ветку гуайявы, которую держал наподобие скипетра. На память ему приходили смутные обрывки историй, которые рассказывал однорукий Макандаль столько лет назад, что он сам запамятовал, когда это было. Постепенно в нем крепла уверенность, что ему предстоит свершить некое деяние, хотя суть этого деяния не была ему открыта ни знамением, ни вещим голосом. Во всяком случае, деяние будет великое, достойное человека, который прожил столько лет на этой земле и наплодил столько детей по ту и по сю сторону моря, а они об отце и думать забыли, помнят только о собственных детях. И по всему явно было, что близится время великих дел. Когда за поворотом тропинки ему встречались женщины, они махали ему светлыми платками в знак почтительного приветствия, склоняясь перед ним, как пальмы, что в день воскресный склонились перед Христом, радуясь Спасителю. Когда он проходил по деревне, старухи приглашали его присесть на пороге хижины, угощали глотком прозрачного рома в плошке из выдолбленной тыквы либо только что скрученной сигарой. Однажды, под перестук барабанов, в плоть Ти Ноэля вселился дух монарха, властителя Анголы, и старик произнес длинную речь, полную недомолвок и посулов. А потом на земли его пришли стада. Ибо все эти коровы, и козы, и овцы, что щипали траву средь развалин, служивших ему дворцом, были поднесены ему в дар подданными, тут не могло быть сомнения. Развалясь в кресле, расстегнув камзол, нахлобучив соломенную треуголку и неспешно почесывая голое брюхо, Ти Ноэль отдавал распоряжения в пространство. Но то были эдикты благодушного правителя, ибо свободе, им установленной, казалось, не грозил деспотизм ни со стороны белых, ни со стороны черных. По воле старика пустырь меж обломками стен становился вместилищем множества прекрасных вещей, прохожему он жаловал сан министра, а крестьянину с серпом – генеральский чин; он даровал титулы, раздавал венки, благословлял девушек, а за верную службу награждал своих подданных полевыми цветами. Так учредил он Орден Горькой Метелки, как в народе зовут чернобыльник, и Орден Рождественского Дара, белого вьюнка-колокольчика, что растет в полях, и Орден Доброго Моря, пышноцветной тропической мальвы, и Орден Ночного Красавчика, называемого еще ночным жасмином. Но самым почетным и желанным был Орден Подсолнуха, ибо он был ярче и крупнее всех прочих. Остатки изразцового пола в его аудиенц-зале под открытым небом были местом, весьма удобным для танцев, а потому во дворец частенько заглядывали крестьяне, и они приносили с собою бамбуковые свирели, чача и литавры. В расщепленных толстых сучьях были зажаты горящие лучины, и Ти Ноэль, кичась пуще прежнего своим зеленым камзолом, восседал во главе стола между Отцом из Саванны, представителем церкви мятежных негров, и старым солдатом, участником битвы при Вертьере, в которой был разбит Рошамбо [135]; в торжественных случаях он облачался в походный мундир, некогда синий, а теперь блекло-голубой, да и отвороты из красных стали розоватыми, ибо крыша его хижины немилосердно текла.