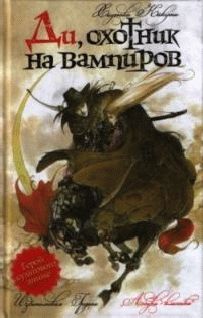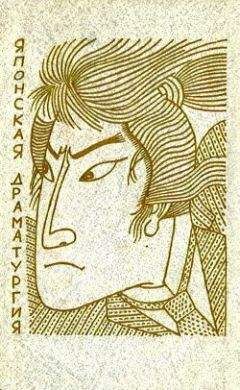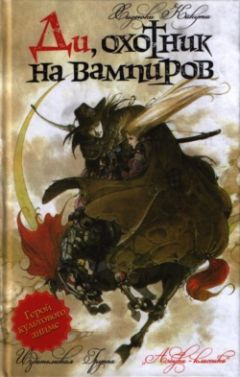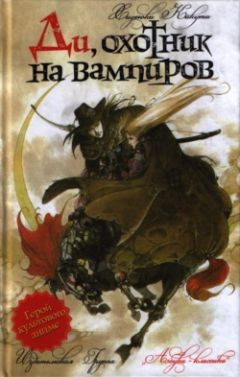Кан Кикути - Портрет дамы с жемчугами
Терзания отца невозможно было описать. Он буквально не находил себе места, руки его, сжатые в кулаки, дрожали.
– Вы говорите о Сёде? Какую же еще подлость он совершил? – воскликнула Рурико.
– Сёду я насквозь вижу. Но кто мог подумать, что и Киносита, мой ученик, предаст меня, – дрогнувшим голосом сказал отец.
– Неужели и Киносита?! – Рурико ушам своим не верила.
– Деньги коверкают душу. Перед ними не устоял, даже тот, кому я неизменно покровительствовал десять с лишним лет. Ради денег он отдал на поругание врагу своего благодетеля. Какая низость! Мое сердце обливается кровью!
– Скажите, отец, что же сделал Киносита? – зардевшись от гнева, нетерпеливо спросила Рурико.
– Помнишь картину, которую принес нам этот субъект? Она оказалась ловушкой, поставленной мне Сёдой, и я так глупо в нее попался. Киносита сказал, что картина принадлежит его другу. Как ты думаешь, кто оказался этим другом? Сёда! И Киносита до того обнаглел, что осмелился явиться ко мне в дом с этой картиной!
– Для чего это им понадобилось? – недоумевала Рурико. – И потом, в тот же вечер вы отвезли картину обратно!
При этих словах отец покраснел и в изнеможении опустился в кресло.
– Рури-сан! Прости меня! Подло заманивать человека в ловушку, но еще подлее попадаться в нее.
Отец опустил глаза, стыдясь смотреть на дочь. Воцарилось напряженное молчание. Первым заговорил отец.
– Рури-сан! – сказал он, не поднимая глаз. – Я все тебе расскажу! По легкомыслию я совершил непростительный поступок, и теперь уже ничего не исправишь. Просто язык не поворачивается говорить тебе о том, каким подлецом оказался Киносита. Так вот, попутал меня черт с этой картиной. Поскольку Киносита оставил ее у меня на продолжительное время, я подумал, что картину можно заложить за тридцать – тридцать пять тысяч иен и избежать таким образом ожидавшего нас позора. Так оно в действительности и оказалось. Этот негодяй Сёда перевернул мне душу, подкупил моего ученика и с его помощью заманил меня в ловушку. Но теперь ты видишь, что твой отец не намного лучше Сёды. Я сам втоптал свое честное имя в грязь!
И отец в отчаянии заметался в кресле. Рурико вся горела от возмущения.
– И… и… чем же все это кончилось? – дрожа всем телом, спросила она.
– Сёда возбудил против меня дело за присвоение чужой вещи, – ответил отец с нескрываемым отвращением. Его бледное лицо подергивалось.
– Разве это преступление? – чуть не плача, спросила Рурико.
– Преступление, – ответил отец. – Закон на стороне Сёды, и дальнейшая борьба бессмысленна. Строжайше запрещено продавать или закладывать отданные на хранение вещи.
– Но ведь так часто делают!
– Часто. Согласен. Именно на это и рассчитывал Сёда. Он сделал все, чтобы я споткнулся, и терпеливо ждал, когда я упаду, чтобы тотчас на меня наброситься.
– Чудовище! Настоящее чудовище! – крикнула Рурико. – До каких же пор он будет нас преследовать?! Это
невыносимо!
– Да, Рурико, твое возмущение справедливо. Будь я помоложе, не оставил бы этого так…
– Ах, отец! Отчего я родилась слабой девушкой, отчего не мужчиной!
Тут из глаз Рурико хлынули слезы, и она уронила
голову на стол.
Где-то часы пробили час. Шум на улицах столицы стих, смолкли рыдания Рурико, и глубокая ночная тишина стала ощущаться еще явственнее.
– Как же решится возбужденное против нас дело? Вряд ли его станут рассматривать в суде, – подняв заплаканное лицо, с надеждой и тревогой спросила Рурико.
– В связи с этим префект и пригласил меня к себе. Он сказал, что дело пустяковое, но, если его раздуть, мне грозит политическая смерть. Как ни упрашивал префект Сёду взять свою жалобу обратно, тот упрямо стоял на своем, требуя, чтобы я лично явился к нему и принес извинения. «По-видимому, Сёда питает к вам вражду, – сказал префект. – Может, вам и в самом деле пойти к нему? Тогда все останется в тайне. Разумеется, неприятно извиняться перед таким человеком, но ведь на карту поставлены и честь ваша, и общественное положение! Если Сёда возьмет свою жалобу обратно, дело не будет возбуждено, поскольку проступок ваш в общем-то незначителен». Вот что сказал мне префект. Но подумай, Рурико, идти с извинениями к негодяю, которому я счел бы для себя унизительным даже поклониться! Лучше умереть! Итак, против меня возбудят дело, и поступок мой будет квалифицирован как порочащий честь. Меня лишат титула, изгонят из общества, все будут тыкать в меня пальцами и говорить: «Взгляните-ка на него, на этого Карасаву, пресловутого члена Верхней палаты. Оказывается, и он не без грешков!» Все станут надо мной издеваться. Нет, смерть в тысячу раз лучше такого позора! Теперь ты поняла, Рурико, почему я хотел лишить себя жизни?
Рурико, словно каменная, слушала горькую исповедь отца, вспыхнувшая было пламенем кровь похолодела.
– Только смерть может спасти меня от бесчестья. Я хотел кровью искупить свою ошибку. Мне страшно было оставлять тебя одну, но позор быть обвиненным в воровстве еще страшнее, и в тот момент ни о чем другом я не мог думать. Но вдруг раздался твой крик, и моя рука, державшая шпагу, оцепенела. «Жалкий трус!» – него до-нал я на себя. Тогда, пожалуй, я впервые понял, что отцовская любовь сильнее долга чести, сильнее славы на политическом поприще. И я решил жить ради тебя. Пусть имя мое покроют позором, пусть меня лишат общественного положения, лишь бы ты была со мной! Жить ради детей куда достойнее, чем жить ради карьеры и честолюбивых целей. Я глубоко раскаиваюсь в том, что выгнал Коити из дому, в том, что чуть было не пожертвовал детьми ради торжества идеи, завещанной мне отцом. Рурико! Отныне я буду жить ради тебя, пусть даже меня ждет вечный позор, только бы ты всегда была рядом. Сердце барона было переполнено любовью к детям. И эта любовь должна была спасти его и дать ему силы для новой жизни.
Но охваченная гневом Рурико не хотела, как отец, сносить позор и унижения и горела одним желанием: мстить и упорно бороться.
– Отец! Неужели мы будем молчать? Неужели любой негодяй только потому, что у него есть деньги, может безнаказанно оскорблять вас, а закон будет на его стороне? Неужели такое возможно?
В этой пылающей гневом девушке трудно было узнать всегда тихую и скромную Рурико.
Как бы успокаивая ее, отец сказал:
– Нет, Рурико, будь я более стойким, никакие интриги не смогли бы нам повредить. Я один во всем виноват, потому что нарушил закон.
– Нет, отец, вы неправы, – запротестовала Рурико. – Любого человека можно заманить в ловушку и толкнуть на преступление. Подкупить Киноситу, которому вы так доверяли, постыдился бы даже отчаянный мошенник! Закон, защищающий Сёду и ему подобных, достоин всяческого презрения! Не вас следует карать, а этого негодяя Сёду!
Глаза Рурико метали молнии. Удивленный такой резкой вспышкой, отец молча слушал дочь.
– Не сдавайтесь, отец! Не уступайте этому мерзавцу! Боритесь до конца и накажите его за совершенную низость! Если бы я была мужчиной!… – Рурико дрожала, словно в лихорадке.
– Видишь ли, Рурико, закон к любым действиям подходит формально. Сёда хоть и негодяй, но не совершил преступления и может разгуливать на свободе, высоко подняв голову. Я же, доведенный до отчаяния, заложил чужую вещь и тем самым нарушил закон. Поэтому наказанию подлежу я, а не Сёда.
– Если закон попирает справедливость, я вправе им пренебречь. Я сама покараю Сёду!
В этот момент Рурико походила на безумную, и отец, пораженный, смотрел на нее широко открытыми глазами.
– Пусть узнает, что сила денег не так велика, как он | думает! Что в мире есть много такого, перед чем деньги – ничто! Что подумает Сёда, если вы оставите его безнаказанным? Он должен понять, что правда сильнее закона, что высшая справедливость способна обратить деньги в прах. Я докажу ему это.
Рурико помолчала, пристально глядя на отца, потом решительно произнесла:
– Прошу вас, отец, не думайте обо мне и не препятствуйте моим поступкам, если даже они покажутся вам странными.
Отец растерянно смотрел на полное решимости лицо дочери, не понимая, что кроется за ее словами.
– Я стану второй Юдифью!
– Юдифью? – переспросил отец, все еще не понимая, что хочет сказать дочь.
– Да, отец, Юдифью. Так звали красавицу-девушку, еврейку.
– Что же это значит? – уже несколько спокойнее спросил отец.
– А то, что я решила стать женой Сёды Сёхэя, – твердо сказала Рурико.
– О! – воскликнул пораженный до глубины души барон.
– Прошу вас, отец! Позвольте мне поступить так, как я сочту нужным!
Это уже была не просьба, а мольба.
– Вздор! – резким, но в то же время ласковым голосом воскликнул барон. – Разве я допущу, чтобы во имя моего спасения ты продала себя? Это было возможно лишь в старую феодальную эпоху. Нельзя подумать без отвращения, что ты отдашься такой свинье, как этот Сёда! Я еще не пал так низко, чтобы пожертвовать хоть одним твоим пальцем, даже волоском, ради собственного благополучия и спасения чести. Так что выбрось это из головы. Право, трудно поверить, чтобы моей рассудительной Рури пришло такое на ум. – Рурико не ожидала, что ее слова вызовут столь бурную реакцию отца, но менять своего решения не собиралась.