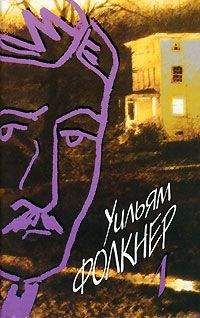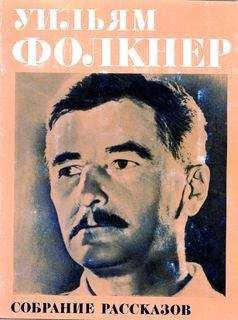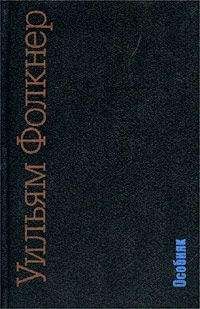Уильям Фолкнер - Солдатская награда
Гиллиген вернул ей письмо.
– Потешный малый, верно? Значит, вы презрели мою любовь и приняли его?
Платье на ветру во весь рост прильнуло к ней.
– Пойдем в сад, там и мне можно покурить.
– Курите тут. Падре не рассердится, ручаюсь.
– Знаю, что не рассердится. Но я боюсь его прихожан. Что они подумают, когда увидят, что незнакомая женщина в черном курит на веранде пасторского дома в восемь часов утра?
– Решили бы, что вы – эта самая французская, как их там называют, и что вас лейтенант привез с собой. От вашего доброго имени ничего не останется, дай им только до вас добраться!
– Это вы печетесь о моем добром имени, Джо, а не я.
– Я пекусь? Как это понять?
– О нашем добром имени главным образом заботятся мужчины, оттого, что они нам его дают. А нам самим и без того дела достаточно. А то, что вы называете добрым именем, похоже на слишком прозрачное платье – носить неудобно. Пойдем лучше в сад.
– И вовсе вы так не думаете, сами знаете, – сказал Гиллиген.
Она слабо улыбнулась, не глядя на него.
– Пойдем, – повторила она, спускаясь с лестницы.
Оставив за собой восторженный щебет воробьев и сладкий запах срезанной травы, они вышли на усыпанную гравием дорожку меж розовых кустов. Дорожка шла под строгим навесом двух дубов, мелкие розы вились по стене, проходившей рядом, и Гиллиген, стараясь попасть в такт ее длинным шагам, ступал осмотрительно, словно боясь что-то растоптать. Когда вокруг росли цветы, он чувствовал себя так, будто вошел в комнату, полную женщин: он стеснялся своего роста, своей походки, ему казалось, что он идет по песку. Оттого он и считал, что не любит цветы.
Миссис Пауэрс часто останавливалась, вдыхала, пробовала губами росу на почках и бутонах. Тропинка повернула меж гряд фиалок к чинной изгороди, где скоро зацветут лилии. У зеленой чугунной скамьи под магнолией она остановилась, посмотрела вверх, на ветви. Оттуда вспорхнул пересмешник, и она сказала:
– Вот там, Джо, посмотрите!
– Что там? Гнездо?
– Нет, бутон. Еще не распустился, наверно, расцветет через неделю, а то и раньше. Знаете, как цветет магнолия?
– А как же: сорвешь цветок – и все. Ничего не остается. Только тронешь – сразу чернеет. Вянет.
– Да, все на свете так. Правда?
– Конечно. Только кто этому поверит? Думаете, наш лейтенант это понимает?
– Не знаю… Неизвестно, дождется ли он этого цветка…
– А зачем ему? Для него уже один цветочек почернел.
Она посмотрела на него, не сразу поняв, о чем он. Глаза у нее какие черные и губы красные, как гранат. Она сказала:
– Ах, вот что – магнолия… А мне она показалась похожей на… скорее на орхидею. Значит, по-вашему, она – магнолия?
– Уж во всяком случае не орхидея. Орхидеи везде есть, а вот такую, как она, ни в Иллинойсе, ни в Денвере не найдешь!
– Пожалуй, вы правы. Не знаю, есть ли где-нибудь еще такие, как она.
– Как знать. По-моему, и одной такой хватает.
– Давайте сядем. Где мои сигареты? – Она села на скамейку, он подал ей пачку сигарет, зажег спичку. – Значит, вы думаете, что она за него не пойдет?
– Как сказать, наверняка не знаю. Теперь мне все кажется по-другому. Она не откажется от возможности выйти, как говорится, за героя, хотя бы для того, чтоб он кому-нибудь другому не достался. – («То есть вам», – подумал он). «То есть мне», – подумала она. А вслух сказала:
– Даже если она узнает, что он скоро умрет.
– Да что она понимает в смерти? Она даже не может представить, что она состарится, а тем более, что тот, кто ей нужен, умрет. Ручаюсь, что она уверена, будто его можно подлатать так, что ничего заметно не будет.
– Джо, вы неисправимый сентименталист. Вы хотите сказать, что она выйдет за него замуж, потому что он этого от нее ждет, а она «порядочная» девушка? Вы добряк, Джо!
– Вот уж ничуть! – сказал он. – Я очень злой, хуже не бывает. Приходится, знаете ли. – Он увидал, что она смеется, и смущенно ухмыльнулся.
– Что, поймали меня, а? – Потом вдруг нахмурился. – Ведь я не за нее беспокоюсь. Старика жалко. Почему вы ему не сказали, что тут дела плохи?
Она ответила по-женски, по-наполеоновски:
– А зачем вы меня послали вперед? Я же говорила вам, что все испорчу? – Она отбросила сигарету, положила руку на его рукав. – Духу не хватило, Джо. Если бы вы видели его лицо! Если бы вы его слышали! Радовался, как ребенок. Показал мне всякие вещички Дональда. Ну, знаете, фото, рогатку, девчоночью рубашонку, луковицу гиацинта – все, что он носил при себе во Франции. А тут еще эта девушка и все такое. Не могла я – и все. Вы меня осуждаете?
– Что же делать, теперь все равно. И все-таки нехорошо – как он вдруг все увидал там, на вокзале, на людях. Но мы-то хотели как лучше, правда?
– Да, сделали что могли. Хорошо, если б можно было сделать больше. – Он рассеянно смотрел в сад, где на солнце, под деревьями, уже взялись за работу пчелы. За садом, через улицу, поверх второй изгороди, виднелось грушевое дерево, похожее на разветвленный канделябр, сплошь усеянное цветами, белыми-белыми… Она подвинулась, закинула ногу за ногу. – А все-таки девушка упала в обморок. Из-за чего, по-вашему?
– Ну, этого я ждал. А вон и Отелло, он как будто нас ищет.
Они смотрели, как садовник, только что косивший траву, шаркая ногами, идет по дорожке. Увидев их, он остановился.
– Мистер Гилммум, вам велено идти домой, хозяин мелел.
– Мне?
– Вы – мист Гилммум, так?
– Да, я – Гиллиген встал. – Извините, мэм. Вы тоже пойдете?
– Идите узнайте, что там нужно. Я тоже сейчас приду.
Негр, шаркая ногами, ушел, и вскоре косилка зажужжала свою песню вслед Гиллигену, подымавшемуся на веранду. Там стоял старик. Лицо у него было спокойное, но сразу стало понятно, что он не спал всю ночь.
– Простите, что побеспокоил вас, мистер Гиллиген, по Дональд проснулся, а я не знаю, как обращаться с «то форменной одеждой, вам лучше известно. А его… его прежние вещи я роздал, когда он… когда его…
– Понятно, сэр, – сказал Гиллиген, чувствуя острую жалость к старику с посеревшим от горя лицом: значит, сын его не узнает! – Я ему помогу!
Священник беспомощно пошел было за ним, но Гиллиген быстро взбежал наверх. Увидев миссис Пауэрс, старик опустился ей навстречу, в сад.
– С добрым утром, доктор, – ответила она на его приветствие. – А я тут любуюсь вашими цветами. Можно, правда?
– Конечно, конечно, дорогая моя. Старому человеку всегда лестно, когда любуются его цветником. Молодежь обладает великолепной уверенностью, что все должны любоваться ими, их переживаниями. Маленькие девочки и то надевают платья старших сестер, когда тем шьются новые, не потому, что они им действительно нужны, а главным образом для забавы или мечтая покрасоваться перед мужчинами. А когда человек стареет, ему уже не столь важно, каков он сам, много важнее то,– что он делает. А я только и умею хорошо выводить цветы. Во мне, очевидно, сидит какая-то скрытая домовитость – я мечтал состариться среди своих книг, своих роз: пока служит зрение, я бы читал, а потом грелся бы на солнышке. Но, конечно, теперь, с возвращением сына, все это надо отложить. Надо бы вам взглянуть на Дональда сегодня. Вы заметите явное улучшение.
– Не сомневаюсь, – сказала она. Ей хотелось обнять старика, утешить. Но он был такой большой, такой уверенный.
Из-за дома выглядывало дерево, покрытое мелкими беловатыми листками, словно туманом, словно застывшими струйками серебряной воды. С тяжеловесной галантностью ректор предложил руку миссис Пауэрс.
– Не пойти ли нам позавтракать?
Эмми уже успела поставить на стол нарциссы. Красные розы в вазе перекликались с красной клубникой в плоской синей чашке. Ректор пододвинул гостье стул.
– Когда мы одни, Эмми сидит тут, но она никак не склонна сидеть за столом с незнакомыми и вообще с гостями.
Миссис Пауэрс села к столу, и Эмми, появившись на миг, так же внезапно исчезла. Наконец послышались медленные шаги на лестнице. Ректор встал.
– С добрым утром, Дональд! – оказал он.
– Это мой отец?
– Ну да, лейтенант, конечно, он самый… С добрым утром, сэр!
Священник стоял, огромный, скованный, беспомощный, пока Гиллиген помогал Мэгону сесть.
– И миссис Пауэрс тут, лейтенант.
Дональд бросил нерешительный, растерянный взгляд.
– С добрым утром, – сказал он.
Но она не сводила глаз с его отца. Потом уставилась на свою тарелку, чувствуя, как горячая влага проступает под веками. «Что я наделала! – подумала она. – Что я наделала!»
Есть она не могла, как ни старалась. Все время она смотрела, как Мэгон, неловко действуя левой рукой, вглядываясь в тарелку, почти ничего не ест, как Гиллиген с завидным аппетитом орудует вилкой и ножом, а ректор, не дотронувшись до завтрака, в беспросветном отчаянии следит за каждым движением сына.
Опять появилась Эмми, неся новые блюда. Пряча лицо, она неловко поставила все на стол и уже собралась торопливо скрыться, когда ректор, подняв глаза, остановил ее. Она обернулась, оцепенев в смущении и страхе, и низко опустила голову.