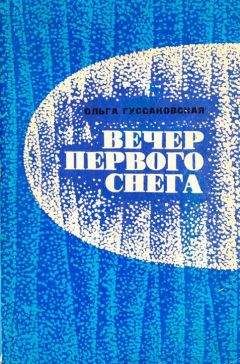Генри Джеймс - Повести и рассказы
— Думаю, что это именно так. Ради него я иду на жертвы. Хоть я все время и слышу от вас о жертвах, которые приносите вы, я их что-то не вижу.
Миссис Морин некоторое время глядела на него; потом она в волнении схватила его за руку.
— А вы, вы согласны… принести эту жертву?
Пембертон расхохотался.
— Я подумаю… я сделаю все, что будет в моих силах… на какое-то время я останусь. Ваши расчеты верны — мысль о том, чтобы с ним расстаться, мне нестерпима, я люблю его, и он возбуждает во мне все больший интерес, несмотря на все неудобства, которые я здесь терплю. Вы отлично знаете мое положение. У меня ничего нет, и оттого, что я занят все время с Морганом, я не имею возможности ничего заработать.
Миссис Морин поскребла сложенной ассигнацией свою обнаженную руку.
— А не могли бы вы разве писать статьи, не могли бы переводить, как я?
— Какие там переводы, за них платят такие гроши.
— Ну, я так бываю рада хоть что-нибудь заработать, — провозгласила миссис Морин, подняв голову и принимая вид оскорбленной добродетели.
— Хоть бы вы научили меня, как их доставать, — Пембертон с минуту выжидал, но она ничего не ответила, и тогда он добавил: — Я тут пытался было напечатать кое-какие статейки, но ни один журнал не пожелал их взять, они поблагодарили и отказались.
— Ну, вот видите — выходит, вы и в самом деле не такая уж важная птица, чтобы иметь бог весть какие претензии, — язвительно улыбнулась его собеседница.
— У меня просто не хватает времени, чтобы делать все так, как положено, — продолжал Пембертон. Потом, сообразив, что унизил себя, начав простосердечно рассказывать ей о своих неудачах, он добавил: — Если я еще останусь у вас, то только при одном условии — я хочу, чтобы Морган знал все о моем положении.
Миссис Морин задумалась:
— Но ведь вы не станете открывать ребенку глаза на…
— Открывать глаза на вас — вы это хотите сказать?
Миссис Морин снова задумалась, но на этот раз для того, чтобы пустить в ход еще более тонкое оружие.
— И после этого вы еще смеете говорить о шантаже!
— Вам ничего не стоит предотвратить его, — ответил Пембертон.
— И вы еще смеете говорить о том, что кто-то играет на страхе! — вскричала она, переходя в наступление.
— Да, разумеется, я же ведь отъявленный негодяй.
Какую-то минуту она на него смотрела — ясно было, что она всем этим глубоко уязвлена. Потом она швырнула ему деньги.
— Мистер Морин попросил меня передать это вам в счет того, что вы заработали.
— Я премного обязан мистеру Морину, но у нас с вами нет этого счета.
— Вы что же, не хотите их брать?
— Да, мне так будет легче, — сказал Пембертон.
— Легче отравлять моему мальчику душу? — простонала миссис Морин.
— Да, отравлять вашему мальчику душу! — со смехом повторил молодой человек.
Несколько мгновений она пристально на него смотрела, и он думал, что она вот-вот разразится стенаниями и мольбой: «Бога ради, скажите мне, что же все это значит!» Но она сумела подавить в себе этот порыв. Другой оказался сильнее. Она спрятала деньги в карман — альтернатива была до смешного груба — и покинула его, согласившись на отчаянную уступку:
— Можете рассказывать ему какие угодно ужасы!
Глава 6
Два дня спустя — а Пембертон все еще медлил воспользоваться данным ему разрешением — учитель и ученик, гуляя вдвоем, целых четыре часа молчали, когда вдруг, сделавшись снова словоохотливым, мальчик заметил:
— Я вам скажу, откуда я это знаю, я узнал обо всем от Зеноби.
— Зеноби? А кто это такая?
— Няня моя, она жила у нас, это было давно. Чудная девушка. Я ужасно ее любил, и она меня тоже.
— Ну мало ли кто кого любил. Так что же ты от нее узнал?
— Да то, что у них на уме. Ей пришлось уйти, потому что они ей не платили. Она ужасно меня любила, и она оставалась у нас два года. Она мне все рассказала, а кончилось тем, что она вообще перестала получать жалованье. Как только они поняли, как она меня любит, они не стали ей давать денег. Рассчитывали, что она будет жить у них даром, из одной только преданности. Но она и так оставалась долго — столько, сколько могла. Эта была девушка бедная. Деньги свои она каждый раз посылала матери. Потом уже не смогла. И вот как-то раз вечером она страшно вскипела — разумеется, вскипела на них. Она так тогда плакала, так плакала, так обнимала меня, что чуть не задушила. Она мне все рассказала, — повторил Морган. — Она сказала, что у них так задумано. И я вот вижу, что они так же хотят поступить и с вами, я об этом уже давно догадался.
— Зеноби была очень проницательна и таким же воспитала тебя.
— О, тут дело было не в Зеноби, а в самой жизни. И в опыте! — рассмеялся Морган.
— Ну, так Зеноби была частью твоего опыта.
— Можете не сомневаться, что я был частью ее опыта. Бедная Зеноби! — воскликнул мальчик. — А теперь я часть вашего опыта.
— И к тому же очень существенная часть. Только я все-таки не могу понять, с чего это ты решил, что со мною обходятся так, как с твоей Зеноби.
— Вы что, считаете меня идиотом? — спросил Морган. — Неужели, по-вашему, я не замечал всего того, что нам с вами пришлось испытать?
— А что мы с тобой испытали?
— Ну, все наши лишения, наши черные дни.
— Подумаешь! Но зато у нас с тобой были же и свои радости.
Морган немного помолчал. Потом он сказал:
— Мой дорогой друг, вы герой!
— Ну так ты тоже! — ответил Пембертон.
— Никакой я не герой. Но я и не младенец. Не стану я больше этого терпеть. Вы должны подыскать себе какую-нибудь работу, за которую будут платить. Мне стыдно, мне стыдно! — вскричал мальчик своим тоненьким голоском, в котором слышалась дрожь и который до глубины души растрогал Пембертона.
— Нам надо с тобой уехать и жить где-нибудь вдвоем, — сказал молодой человек.
— Я бы уехал хоть сейчас, только бы вы меня взяли с собой.
— Я бы достал себе какую-нибудь работу так, чтобы нам хватило на жизнь обоим, — продолжал Пембертон.
— Я бы тоже стал работать. Почему бы и мне не работать? Не такой уж я cretin![238]
— Трудность заключается в том, что родители твои и слышать не захотят об этом, — сказал Пембертон. — Ни за что на свете они с тобой не расстанутся: они благоговеют перед землей, по которой ты ступаешь. Неужели ты сам не видишь, что это так? Нельзя, правда, сказать, чтобы они не любили меня, они не хотят мне зла, это очень расположенные ко мне люди. Но они не остановятся перед тем, чтобы исковеркать мне жизнь, лишь бы тебе было хорошо.
Молчание, которым встретил Морган эту изящную софистику, поразило Пембертона заключенным в нем смыслом. Немного погодя он снова сказал:
— Да, вы герой! — И потом добавил: — Они ведь все равно оставляют меня на вас. Отвечаете за все вы. Они поручают меня вам с утра и до вечера. А раз так, то чего же им противиться тому, чтобы вы увезли меня навсегда? Я бы вам стал помогать.
— Не очень-то они озабочены тем, чтобы мне кто-то помогал, и они радуются тому, что ты принадлежишь им. Они бог знает как гордятся тобой.
— А мне вот не приходится ими гордиться. Впрочем, это вы знаете, — сказал Морган.
— Если не считать того маленького вопроса, который мы сейчас затронули, то они премилые люди, — сказал Пембертон, не давая ученику своему обвинить его в том, что он чего-то не договаривает, и вместе с тем дивясь его прозорливости и еще чему-то, что вспоминалось ему сейчас и что он уловил еще с самого начала — удивительной особенности душевного склада мальчика, его обостренной чувствительности… больше того, какому-то созданному им идеалу, который и приводит к тому, что он про себя осуждает всех своих близких. На дне души Моргана таилось некое благородство, породившее в нем зачатки раздумья, презрительного отношения к своим домашним, которого друг его не мог не заметить (хоть им и ни разу не случалось говорить об этом), и совершенно несвойственного такому подростку, особенно если учесть, что оно отнюдь не сделало его старообразным, как принято говорить о детях странных, или преждевременно созревших, или заносчивых. Можно было подумать, что это маленький джентльмен и что узнать о том, что в своей семье он является исключением, само по себе было для него тягостною расплатою за это свое преимущество. Сравнение себя со всеми остальными не делало его тщеславным, однако он подчас становился грустным и немного суровым. Когда Пембертон старался уловить эти смутные порывы его юной души, он видел, что мальчик и серьезен, и обходителен, и тогда наступало искушение, которое то неудержимо влекло его, то удерживало у самой грани, — искушение погрузиться в это дышавшее прохладою мелководье, в котором открывались вдруг неожиданные глубины. Когда же для того, чтобы знать, как ему следует вести себя со своим питомцем, он пытался перенестись в атмосферу этого необычного детства, он не находил никакой точки опоры, никакой определенности и убеждался, что неведение мальчика, стоит только к нему прикоснуться, в тот же миг незаметно преображается в знание, и оказывается, что в данную минуту нет ничего, что тот бы не мог охватить умом. Вместе с тем ему казалось, что сам он знает и слишком много для того, чтобы представить себе простодушие Моргана, и в то же время слишком мало, чтобы пробраться сквозь чащу обуревающих мальчика чувств.