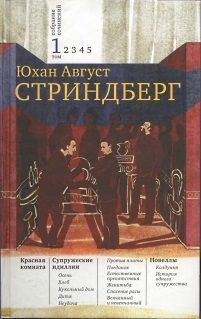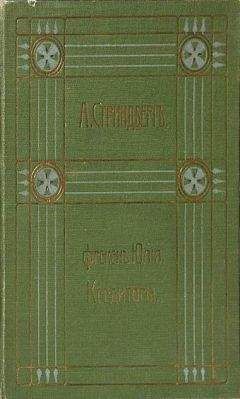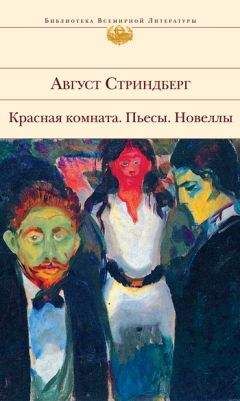Август Стриндберг - Красная комната
— Да, откуда вы знаете?
— Значит, вы знакомы и с Ангелом-хранителем?
— А это откуда вам известно?
— Сегодня я отказался от статьи.
— Нельзя отказываться от работы. Вы еще пожалеете об этом! Вот увидите!
На щеках у Фалька выступил лихорадочный румянец, и он стал с жаром говорить, отстаивая свою точку зрения. Селлен же курил, не вмешиваясь в беседу, и больше прислушивался к музыке, чем к разговору, который был ему и неинтересен и непонятен. Со своего места в углу дивана он видел через открытые двери обе галереи сразу, и северную и южную, и еще зал между ними. Сквозь густые облака табачного дыма, клубившиеся между галереями, он все же мог различить лица тех, кто сидел по другую сторону зала. Внезапно Селлен разглядел кого-то в самом дальнем конце галереи. Он схватил Фалька за руку.
— Нет, ты только посмотри, какой плут! Вон там, за левой гардиной!
— Лунделль!
— Вот именно, Лунделль! Он ищет свою Магдалину! Смотри, уже разговаривает с ней! Ловкий малый!
Фальк так покраснел, что Селлен это заметил.
— Неужели он ищет там своих натурщиц? — изумленно спросил Фальк.
— А где еще ему искать? Не на улице же впотьмах?
Лунделль тотчас же подошел к ним, и Селлен приветствовал его покровительственным кивком, значение которого Лунделль, очевидно, понял, потому что поклонился Фальку немного любезнее, чем обычно, и в довольно оскорбительной манере выразил свое крайнее изумление по поводу присутствия здесь Игберга. Игберг, который все это прекрасно заметил, воспользовался удобным случаем, ехидно спросив, что Лунделль изволит откушать; Лунделль вытаращил глаза от изумления — не иначе, он попал в компанию вельмож и магнатов. Он сразу же почувствовал себя вполне счастливым, подобрел и ощутил прилив человеколюбия, а когда расправился с ужином, у него немедленно появилась потребность излить обуревавшие его чувства. Видимо, ему хотелось сказать Фальку что-нибудь приятное, но он никак не мог найти подходящий повод. Весьма не вовремя оркестр вдруг заиграл «Внимай нам, Швеция», а потом «Господь — наша крепость». Фальк заказал еще спиртного.
— Вы, господин асессор, вероятно, любите, так же как и я, добрые старые песнопения? — начал Лунделль.
Фальк отнюдь не был уверен в том, что предпочитает церковные песнопения всем другим музыкальным жанрам, и потому спросил Лунделля, не хочет ли он пунша. Лунделль заколебался, стоит ли ему рисковать. Может быть, ему следует сначала еще немного поесть; он слишком ослаб, чтобы пить, и он счел своим долгом проиллюстрировать это коротким, но жестоким приступом кашля, который вдруг напал на него после третьей рюмки.
— Факел примирения! Какой великолепный образ! — продолжал Лунделль.
— Он символизирует одновременно и глубокую религиозную потребность в примирении, и свет, разлившийся над миром, когда свершилось величайшее из чудес, к вящей досаде высокомерия и чванства.
Он засунул в рот, за самый последний коренной зуб, кусок мяса и с любопытством посмотрел, какое впечатление произвела его речь, но был весьма разочарован в своих ожиданиях, увидев три глупые физиономии, выражавшие полнейшее недоумение. По-видимому, ему следовало изъясняться понятнее.
— Спегель — большое имя, его язык — это не язык фарисеев. Мы все помним его замечательный псалом «Умолкли жалобные звуки», равного которому нет! Ваше здоровье, асессор! Был весьма рад с вами познакомиться!
Тут Лунделль обнаружил, что в рюмке у него пусто.
— Позволю себе выпить еще рюмку.
Две мысли упрямо жужжали в голове у Фалька: первая — ведь этот малый хлещет водку! Вторая — откуда он знает про Спегеля? Внезапно молнией мелькнуло подозрение, но ни во что вникать не хотелось, и он только сказал:
— Ваше здоровье, господин Лунделль!
Неприятному разговору, грозившему теперь воспоследовать, помешало неожиданное появление Олле. Да, то был действительно он — более оборванный, чем обычно, более грязный, чем обычно, и казалось, ноги у него были еще более кривые, чем обычно; они как два бушприта торчали из-под сюртука, который держался теперь лишь на одной застегнутой над верхним ребром пуговице. Но он радовался и смеялся, увидев на столе такое обилие еды и питья, и, предварительно сложив с себя полномочия, начал, к ужасу Селлена, подробно отчитываться в том, как он выполнил свою высокую миссию. Его действительно задержал полицейский.
— Вот квитанции!
И он протянул Селлену через стол две зеленые закладные квитанции, которые тот моментально превратил в бумажный шарик. Потом его препроводили в полицейский участок. Олле продемонстрировал наполовину оторванный воротник сюртука. Ему пришлось назвать свое имя. Разумеется, они заявили, что это ложь. Ни одного человека в мире не зовут Монтанус. Затем место рождения: Вестманланд. Тоже, разумеется, ложь, потому что старший полицейский сам оттуда и прекрасно знает всех своих земляков. Далее возраст: двадцать восемь лет. Опять ложь, «поскольку ему не менее сорока». Место жительства: Лилль-Янc. Ложь, так как там вообще никто не живет, кроме садовника. Профессия: художник. Тоже ложь, «потому что по виду он не что иное, как портовый бродяга».
— Вот краски, четыре тюбика! Смотри!
Затем они развязали узел, порвав при этом одну из простынь.
— Поэтому мне и дали за обе только один риксдалер двадцать пять эре. Проверь по квитанции!
Потом его спросили, где он украл все эти вещи. Олле ответил, что он их не крал; тогда старший полицейский обратил его внимание на то, что вовсе не спрашивает, украл он или не украл, а спрашивает, где украл! Где? Где? Где?
— Вот сдача, двадцать пять эре! Я не взял себе ни эре.
После этого составили протокол об «украденных вещах», на каковом были проставлены три печати. Напрасно Олле уверял, что ни в чем не виноват, напрасно взывал к чувству справедливости и гуманности. Упоминание о гуманности привело лишь к тому, что полицейский предложил записать, будто в момент задержания арестованный — он уже был арестованным — находился в состоянии сильного опьянения крепкими напитками, и это также было занесено в протокол, без упоминания, впрочем, о крепости напитков. Затем старший полицейский настоятельно и неоднократно просил полицейского припомнить, не пытался ли арестованный оказать сопротивление при задержании, но тот заверил, что не может поклясться, будто арестованный оказывал сопротивление (что странно, поскольку у того весьма коварный и угрожающий вид), однако можно было «предположить», что арестованный пытался оказать сопротивление, забежав в ворота, и предположение старшего полицейского также было занесено в протокол.
Затем был составлен рапорт, который Олле приказали подписать. Рапорт гласил, что некий субъект с весьма подозрительной и внушающей опасения наружностью был замечен в тот момент, когда крался по левой стороне Норрландской улицы в четыре часа тридцать пять минут пополудни с узлом подозрительного вида. На задержанном субъекте был сюртук из зеленого сукна (без жилета), брюки из синей байки, рубашка с инициалами на изнанке воротничка «П. Л.» (что неопровержимо свидетельствует о том, что она либо украдена, либо задержанный скрыл свое настоящее имя), серые в полоску носки и фетровая шляпа с низкой тульей и петушиным пером. Задержанный назвался Олле Монтанусом и заявил, что родом якобы из Вестманланда, по происхождению из крестьян, и уверял, что по профессии он художник, а проживает в Лилль-Янсе, что, несомненно, не соответствует действительности. При задержании пытался оказать сопротивление, забежав в ворота. Далее следовало перечисление похищенных вещей, изъятых из узла. Поскольку Олле отказался признать обвинения, содержавшиеся в рапорте, блюстители порядка немедленно связались с тюрьмой и отправили туда арестованного вместе с узлом в пролетке в сопровождении полицейского. Когда они проезжали по Монетной улице, Олле вдруг увидел депутата риксдага Пера Ильссона из Тресколы, своего земляка, а теперь и спасителя, к которому воззвал о помощи, и тот засвидетельствовал, что рапорт лжив от начала и до конца, после чего Олле отпустили с миром и даже вернули ему узел. И вот он здесь и…
— Вот ваши французские булочки! Осталось только пять, одну я съел. А вот пиво.
Он действительно выложил на стол пять булочек, достав их из задних карманов брюк, после чего его фигура приняла свои обычные диспропорции.
— Брат Фальк, прости, пожалуйста, нашего Олле, он не привык бывать в обществе; а ты, Олле, убери куда-нибудь подальше свои булки и перестань валять дурака, — сказал Селлен.
Олле послушался. Между тем Лунделль никак не хотел расставаться с блюдом, хотя так тщательно очистил его, что на нем не осталось никаких следов, по которым можно было бы судить о содержимом тарелок, а бутылка с водкой время от времени, словно сама по себе, вдруг приближалась к его рюмке, и Лунделль как бы ненароком наполнял ее. Изредка он вставал или поворачивался на стуле, чтобы «посмотреть», что играют, причем Селлен внимательно следил за каждым его движением. Вскоре пришел Ре-ньельм. Совершенно пьяный, он молча уселся и под пространные увещевания Лунделля стал искать, на чем бы ему остановить свой блуждающий взгляд. В конце концов его усталые глаза наткнулись на Селлена и замерли в безмолвном созерцании бархатного жилета, который на весь остаток вечера дал богатую пищу его молчаливым размышлениям. На какой-то миг лицо его вдруг просветлело, словно он увидел старого знакомого, но потом вновь погасло, когда Селлен сказал, что «ужасно дует», и застегнул пиджак. Игберг опекал Олле, потчуя его ужином, без устали призывая отведать какого-нибудь блюда, и постоянно подливал в его рюмку. Время шло, музыка гремела все веселее, а беседа становилась все оживленнее. Это состояние упоения казалось Фальку удивительно приятным; здесь было тепло, светло, шумно, накурено, рядом сидели люди, которым он продлил жизнь на несколько часов, и вот они рады и счастливы, как мухи, ожившие, когда на них упало несколько солнечных лучей. Он почувствовал, что близок им, а они — ему, потому что все они одинаково несчастливы и достаточно деликатны, и все хорошо понимали то, что он хотел им сказать, и когда сами хотели что-нибудь сказать, то говорили на языке человеческом, а не книжном; даже в их грубости была известная прелесть, потому что она выражала нечто совершенно первозданное, наивное, и даже лицемерие Лунделля не вызывало у него неприязни, поскольку было таким ребяческим и таким нелепым, что никто не принимал его всерьез. Так прошел этот вечер, а с ним и закончился день, который безвозвратно и бесповоротно толкнул Арвида Фалька на тернистый путь литератора.