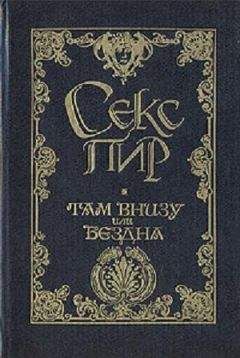Жорис Карл Гюисманс - Наоборот
На земле что-то зашевелилось, превращаясь в очень бледную голую женщину, ее ноги были обтянуты зелеными шелковыми чулками. Он с изумлением смотрел на нее; волосы, похожие на гриву, завитую раскаленным железом, вились, ломаясь на концах; вазочки Кувшинолистника висели на ушах; раздувшиеся ноздри поблескивали внутри, как жареная телятина. Закатив глаза, она тихонько позвала его.
Он не успел ответить; женщина изменилась; зрачки пылали, губы приобрели яростную красноту цветка Anthurium, соски сверкали, как два лакированных стручка красного перца.
Он вдруг догадался: это Цветок.
И мания рассудительности переросла в кошмар, подобно тому, как днем перешла от растения к вирусу.
Тогда он стал смотреть на ужаснейшее возбуждение грудей и рта, обнаружил на коже пятна бистра и меди, с помутившимся сознанием отступил, но взгляд женщины прельщал; и он медленно приближался, стараясь вдавливать пятки в землю, чтобы не идти, падал, снова поднимался, чтобы идти к ней; он почти коснулся ее, когда черные Amorphophallus брызнули отовсюду, бросились к этому животу, вздымавшемуся и опадавшему, как море. Он раздвигал их, отталкивая, испытывая безграничное отвращение, видя, как шевелятся между пальцев эти теплые твердые стебли; внезапно мерзкие растения исчезли; две руки пытались его обнять; жуткая тоска заставила биться сердце тяжелыми ударами, потому что глаза, страшные женские глаза стали светло-голубыми и холодными, невыносимыми. Сверхчеловеческим усилием он попытался высвободиться из объятий; но она его удержала, привлекла; вне себя, он увидел, как под ее поднятыми ляжками расцвел жестокий Nidularium: зевал, сочась кровью в сабельных лезвиях.
Он касался своим телом отвратительной раны цветка: чувствовал, что умирает; рванувшись, пробудился, задыхаясь, оледенев, обезумев от страха, вздыхая:
— Ах, это слава Богу, лишь сон.
IX
Кошмары возобновились; страшно было засыпать. Он проводил в постели целые часы, то в постоянных бессонницах и лихорадочном возбуждении, то в омерзительных снах, от которых освобождаешься рывком, когда снится, что не достаешь дна ногами, скатываешься кубарем с лестницы, проваливаешься в пропасть, не имея возможности удержаться.
Невроз, притихший было на несколько дней, одержал верх: ожесточился, стал упрямее, принял новые формы.
Теперь его стесняли простыни; он задыхался под ними, по всему телу кишели мурашки, он испытывал жжение в крови, укусы блох в ногах; вскоре к этим симптомам присоединилась тупая боль в челюстях и сдавливание висков.
Беспокойство увеличилось; к несчастью, неумолимую болезнь нельзя было укротить. Он безуспешно пытался провести гидротерапевтические устройства в туалетную комнату. Невозможно ведь поднять воду на холм, к которому прицепился его домик; да и достать ее в нужном количестве нельзя: водоемы в деревне функционировали скупо и лишь в определенные часы. Поскольку нельзя было искромсать себя водяными копьями (только мощная струя, распластанная о позвонки, изгоняла бессонницу и возвращала спокойствие), он был принужден к лаконичным окроплениям в ванне, из-под крана, к простеньким обливаниям холодной водой, после чего слуга энергично растирал его волосяной варежкой.
Но все эти псевдодуши нисколько не мешали развитию невроза; в лучшем случае наступало кратковременное облегчение, за которое приходилось дорого платить, когда приступы возобновлялись, еще более жестокие, чем прежде.
Скука становилась безграничной. Радость обладания сказочными растениями иссякла; он уже пресытился их строением, оттенками; к тому же несмотря на все заботы, большинство растений зачахло; он приказал унести из комнаты и, дойдя до крайней раздражительности, злился, что не видит их; пустота ранила глаза.
Чтобы отвлечься и убить нескончаемое время, извлек из папки гравюры Гойи, первые оттиски некоторых "Капричос", различимые по красноватому тону (когда-то они были куплены на аукционе за бешеные деньги); морщины разгладились, он погрузился в созерцание, следуя за фантазией художника, влюбленный в головокружительные сцены, в колдуний, оседлавших кошек, в женщин, пытающихся вырвать зубы повешенного, в бандитов, в суккуб, в демонов и карликов.{24}
Затем пробежал другие серии офортов и акватинт: "Притчи", насыщенные мрачным ужасом: эпизоды войны, раздираемые жестокой яростью; и особенно "Гаро": у дез Эссэнта хранился изумительный пробный оттиск на плотной непроклеенной бумаге, с хорошо видимыми полосками, пересекающими поверхность.
Дикое вдохновение, терпкий сумасшедший талант Гойи захватывали в плен; однако всеобщее восхищение перед его вещами немного отталкивало дез Эссэнта; еще несколько лет назад он решил не заключать гравюры в рамки, боясь, что, если выставит — первый же болван сочтет нужным брызгаться глупостью, восторгаться перед ними, как и "положено".
Та же история происходила и с его Рембрандтами; дез Эссэнт созерцал эти гравюры лишь изредка, да и то украдкой; ведь в самом деле: если лучшая в мире ария делается невыносимой и вульгарной, едва попадает на уста публике и в лапы шарманок, — произведение искусства, которое не остается безразличным к мнению бездарей, ценность которого не оспаривается дураками и которое не довольствуется восторгом нескольких посвященных, становится для них оскверненным, банальным, почти отталкивающим.
Эта смесь в восхищении была одной из самых горьких его печалей; непостижимый успех навсегда отравил ему наслаждение любимыми до этого картинами и книгами; из-за сужих похвал он начинал замечать незначительные погрешности и отбрасывал, спрашивая себя, не утратил ли он чутье, не лишился ли вкуса.
Он закрыл папки и, обескураженный, снова впал в сплин. Чтобы изменить ход мыслей и охладить мозг, попытался приобщиться к успокаивающему чтению, к пасленовым от искусства, прочитал романы Диккенса, рекомендуемые тем, кто скверно себя чувствует и выздоравливает, кто устал от столбнячных и богатых фосфатами произведений.
Эффект, противоположный ожидаемому: добродетельные влюбленные, героини-протестантки, застегнутые до самой шеи, клялись в любви под звездами, ограничивались тем, что опускали глазки, краснели, плакали от счастья, пожимая друг дружке руки. Гиперболизация чистоты тотчас швырнула его в противоположную сторону. По закону контрастов он прыгнул из одной крайности в другую, вспомнил потрясающие, лакомые сцены, манеры совокуплений, вспомнил о поцелуях взасос, "поцелуях голубков", как именует их церковный стыд.
Он прервал чтение и, уйдя подальше от дуры Англии, задумался о необузданных грешках, об изысканной похоти, осужденной Церковью; он испытал потрясение; анафродизия мозга и тела, которую он считал абсолютной, рассеялась; одиночество растравило нервы; он был снова одержим, но не самой религией, а весельем действий и грехов, осуждаемых ею; интересовал только привычный сюжет ее уговоров и угроз; дремавшая вот уже несколько месяцев чувственность, которую поначалу тронуло отупляющее благочестивое чтение, а потом, в кризисе невроза, окончательно пробудила и выпрямила английская кантилена, — встала на дыбы; мысленно сцепив ее с прошлым, он зашлепал по грязи старых клоак.
Дез Эссэнт встал и меланхолически открыл вермейевый ларчик с крышкой, усыпанной авантюринами.
Он был наполнен фиолетовыми бонбошками; взяв одну и погладив пальцами, дез Эссэнт подумал о загадочном свойстве этой обсахаренной, словно посыпанной инеем конфете; раньше, когда его постигало бессилие и когда без досады, без сожаления, без новых желаний он мечтал о женщине, достаточно было положить конфетку на язык и растопить, как внезапно, обволакивая бесконечной негой, возникали уже стертые призывы, самые истомляющие из прежних игр.
Эти бонбошки, изобретенные Сиродэном и обладающие забавным названием "Перинейские Жемчужины", состояли из капельки ароматного саркантуса и капельки "женской эссенции", кристализованной в куске сахара; проникая в языковые сосочки, они вызывали ощущение глубоких поцелуев, приправленных самочьим запахом.
Обычно он улыбался, втягивая этот страстный аромат, эту тень ласк, этот кусочек наготы, попавшей в мозг, и на секунду оживлял когда-то обожаемый вкус некоторых женщин: сегодня действие конфетки не было деликатным: оно не ограничилось тем, что оживал образ далеких, расплывчатых шалостей; напротив — раздиралась вуаль, в глаза настойчиво лезла глубокая телесная реальность.
Вкус конфетки помог набросать довольно отчетливыми штрихами вереницу любовниц, их возглавляла одна, белодлиннозубая, атласнорозовокожая, приплюснутоносая, мышьеглазая, кудельковокудрявая.
Это мисс Урания, американка, с хорошо выкроенной фигурой, нервными ногами, стальными мускулами, литыми руками.
Она была одной из прославленнейших цирковых акробаток.