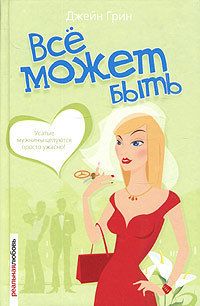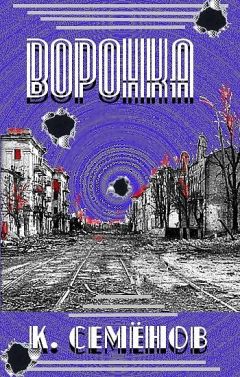Анна Зегерс - Транзит
Для Жоржа Клодин была не чудом, а чем-то более обыденным и вместе с тем куда более значительным. Она стала меня расспрашивать о враче, а я все из того же странного чувства ревности рассыпался в похвалах. Вскоре он сам вошел в кухню. Он успокоил Клодин, сказав ей на хорошем французском языке, без всякого акцента, что болезнь кажется страшнее, чем есть на самом деле, что сейчас главное – ничем не волновать ребенка. Мне показалось, что это последнее замечание относилось ко мне, хотя на меня он и не взглянул, да мне и не в чем было себя упрекнуть. Он выписал рецепт. Несмотря на его возражения, я проводил его до улицы Республики. Он и теперь не глядел на меня и не задал мне ни одного вопроса о семье Бинне, словно он ни во что не ставил чужие рассказы и до всего хотел дойти сам. Я чувствовал себя школьником, которому и нравится новенький, и вместе с тем досадно, что тот не обращает на него никакого внимания. На деньги, полученные иной от какого-то комитета «для подготовки отъезда», я тут же, ночью, купил лекарство.
Когда я снова поднялся, к Бинне, мальчик уже совсем успокоился. Глядя на нас сонными глазами, он рассказал; что врач обещал ему принести завтра разнимающийся муляж человеческого тела. Засыпая, мальчик все еще говорил о враче. «Он был здесь всего десять минут» – подумал я, – и уже ребенок живет его обещаниями. У мальчишки появились новые мечты, ему открылся целый новый мир».
II
Ну вот, теперь я подошел к главному. Это было двадцать восьмого ноября. Я запомнил дату. Разрешение на жительство в Марселе, продленное мне еще на месяц, истекало через несколько дней. Я долго ломал голову над тем, что предпринять. Заново зарегистрироваться, как вновь прибывший, предъявив отпускное свидетельство из лагеря, которое мне дал Гейнц? Снова пойти к, мексиканцам? Я сел за столик в «Мон Верту». В этом кафе я бывал теперь регулярно раза четыре в неделю.
В кафе я пришел от Бинне. Мальчик уже почти выздоровел. С врачом мы за это время не то чтобы подружились – для этого он мало подходил, – но стали добрыми знакомыми. Нам было с ним интересно – он так отличался от нас. Едва переступив порог, он принимался рассказывать, как продвигаются его дела с отъездом. Все время возникали какие-то новые затруднения. Денно и нощно, говорил он нам, его преследует одно видение: белая стена той больницы, где он должен работать, и больные, которые ждут врача. Его одержимость нравилась мне, а самоуверенность забавляла. Врач был так поглощен своей будущей деятельностью, что ему казалось, мы не можем, не разделять его чувства. Штамп, визы уже стоял у негр – в паспорте. Когда начинались разговоры о визах, мальчик всегда отворачивался к стене. Я думал тогда по своей глупости, что ему просто наскучили эти разговоры.
Как только врач прикладывал ухо к груди ребенка, чтобы его выслушать, он успокаивался и забывал о своих визах. На его лице, напряженном лице затравленного человека, одержимого навязчивой идеей, появлялось выражение мудрости и доброты, словно жизнь его вдруг перестала зависеть от решений чиновников, консулов и подчинилась силам иного порядка.
Я сидел в кафе и думал об отъезде доктора и о способах продлить свое пребывание в Марселе. Кафе «Мон Верту» находится на углу Каннебьер и Бельгийской набережной. То что произошло затем, не только не омрачило, я, наоборот, словно озарило в тот предвечерний час и меня, и все вокруг, все – даже самое праздное и незначительное в моей прежде праздной и незначительной жизни. Между столиком, за которым я устроился, и буфетом были еще Два столика. За одним из них сидела маленькая женщина с растрепанными волосами. Она всегда была здесь в это время, всегда ставила свой стул боком и всегда рассказывала всем одно и то же, и всякий раз глаза ее наполнялись при этом ужасом. Она рассказывала, как потеряла своего ребенка во время бегства из Парижа. Она посадила мальчика в машину к солдатам, потому что он устал. И вдруг появились немецкие самолеты и принялись бомбить шоссе. Пыль, вопли… А когда все кончилось, ребенка не оказалось в машине. Она нашла его только через несколько недель недалеко от шоссе, на каком-то хуторе. Он никогда уже не будет таким, как другие дети.
За ее столиком сидел еще долговязый, неприятный чех, который во что бы то ни стало хотел уехать в Португалию. Не только для того, чтобы оттуда отправиться в Англию и принять участие в борьбе с немцами. Все это он нашептывал на ухо каждому встречному. Некоторое время я даже прислушивался, цепенея от скуки, к их разговору. За другим столиком сидела группа местных жителей. Правда, это были не настоящие марсельцы, но все они уже прочно обосновались в здешних местах и жили неплохо, умело извлекая выгоду из страха и предотъездной горячки прибывающих беженцев. Один из них, под общий хохот; рассказывал остальным, как два молодых человека, бежавших вместе из лагеря, наняли за бешеные деньги маленький пароходик, чтобы со своими женами – оба они только что женились – покинуть Францию. Однако судовладелец обманул их – в его посудине оказалась течь. Они добрались до испанских берегов, но дальше плыть не смогли, им пришлось вернуться назад. Они вошли в устье Роны, там их обстреляла береговая охрана и вынудила стать на якорь. Эту историю я слышал уже тысячу раз, новым для меня был только ее конец. Обоих мужчин вчера осудили на два года каторжных работ!
Та часть кафе, в которой мы сидели, выходила на Каннебьер. Со своего места я видел Старую гавань. У Бельгийской набережной стояла канонерка. За парапетом набережной среди мачт и рей рыбачьих лодок поднимались высокие серые трубы, – я видел все это в окно, сквозь клубы табачного дыма, наполнявшего кафе.
Заходящее солнце освещало форт. Уж не задул ли снова мистраль? Женщины на улице натянули на головы капюшоны. Лица людей, входивших в кафе через вертящуюся дверь, были напряженными. От ветра и тревоги. Никто не любовался морем, освещенным солнцем, зубцами церкви св. Виктора, сетями, которые рыбаки разложили для просушки вдоль всего причала. Люди говорили, не умолкая, о транзите, о паспортах, срок которых истекал, о трехмильной зоне, курсе доллара, о разрешении на выезд и опять о транзите. Мне захотелось встать и уйти. Мне все опротивело.
И вдруг мое настроение изменилось. Почему? Я никогда не знаю, чем бывают вызваны такие перемены. Болтовня вокруг показалась мне уже не отвратительной, а захватывающей. Извечная портовая болтовня, такая же древняя, как сама Старая гавань, а быть может, ещё древнее. Чудесные, старые как мир портовые сплетни, не затихавшие с тех пор, как шумит Средиземное море. Сплетни финикийские я критские, греческие и римские… Никогда не переводились болтуны, боявшиеся не попасть на отходящий корабль и не сберечь своих денег; люди, бегущие от всех действительных и мнимых опасностей; дети, потерявшие своих матерей; матери, потерявшие своих детей; остатки разгромленных армий, беглые рабы, изгои – выходцы из разных стран. Все они в конце концов добирались до моря и старались попасть на корабли, чтобы открыть новые страны, откуда их тоже потом прогонят. Все они бежали от смерти, и смерть преследовала их по пятам. Здесь, должно быть, всегда стояли на якоре корабли – ведь это был рубеж Европы, и море врезалось в сушу. Здесь всегда искали временного прибежища, потому что дороги здесь упирались в море. Я чувствовал себя древним, как мир, мне казалось, что я живу на земле уже тысячи лет, казалось, что все это я уже пережил, и вместе с тем я ощущал себя молодым, жадным до всего, что ждет меня впереди, я чувствовал себя бессмертным. Но это чувство вскоре прошло, оно было слишком сильным для меня, слабого. Меня снова охватило отчаяние, отчаяние и тоска по родине. Мне было жаль своих зря потраченных двадцати семи лет, растерянных в чужих странах.
За соседним столиком теперь говорили о пароходе «Алезия», который направлялся в Бразилию, но был задержан англичанами в Дакаре, потому что на его борту находились французские офицеры. Все пассажиры попали в концлагерь где-то в Африке. Как весело говорил об этом рассказчик! Должно быть, оттого, что те, кому посчастливилось попасть на «Алезию», были теперь так же далеки от цели, как и он сам. Я и эту историю слышал уже несметное число раз. Я тосковал по простой песне, по птицам и цветам, я тосковал по голосу матери, которая меня бранила, когда я был мальчишкой. О, убийственная болтовня!
Солнце скрылось за фортом св. Николая. Пробило шесть. Мой равнодушный взгляд упал на дверь. Она снова завертелась, и в кафе вошла женщина. Что мне вам об этом сказать? Я могу сказать только одно: она вошла. Человек который покончил с собой на улице Вожирар, мог бы это выразить иначе. Я могу сказать только одно: она вошла Вы, надеюсь, не потребуете, чтобы я вам ее описал. Да в ту минуту я и не разглядел толком, была ли она блондинкой или брюнеткой, совсем молоденькой или постарше. Она вошла, остановилась у дверей и оглядела зал. Лицо ее выражало напряженное ожидание, почти страх. Словно она надеялась и вместе с тем боялась кого-то здесь увидеть Какие бы мысли ни волновали ее, они не имели никакого отношения к визам, в этом я был уверен. Сначала она пересекла ту часть зала, которую и я мог оглядеть со своего места и которая выходила на Бельгийскую набережную. Я следил за ней и видел, как острый кончик ее капюшона вырисовывается на фоне большого, уже посеревшего окна. Вдруг меня охватил страх, что она больше никогда не вернется – ведь в дальней части кафе тоже была дверь на улицу, она могла выйти через эту дверь. Но незнакомка сразу же повернула назад. Ее юное лицо выражало уже не ожидание, а разочарование.